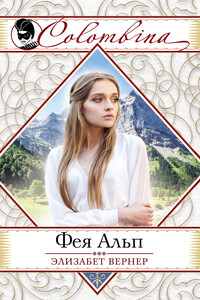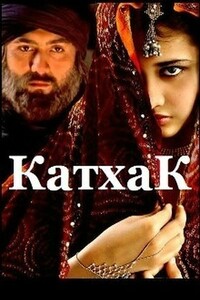Отзвуки родины | страница 45
— Этот фрисландский мужик, по-видимому, представляется тебе настоящим героем, — саркастически усмехнулся Гельмут.
— По крайней мере, настоящим мужчиной, — холодно возразила Элеонора. — И этого в нем отрицать нельзя, особенно по сравнению с другими.
— Элеонора! — воскликнул Гельмут.
Его глаза метали молнии, но они встретились с прямым взглядом. Девушка нисколько не смутилась.
— Конечно, все Мансфельды были настоящими мужчинами, — продолжала она, — энергичными и храбрыми, и только последний отпрыск древнего благородного рода, которого судьба сделала владельцем поместий его предков, только он один предпочитает быть послушным сыном какого-то Оденсборга. Да, Гельмут, этот чужестранец — господин и повелитель в твоем родовом имении; он управляет им, как ему нравится, он творит суд и расправу, а ты… ты — не что иное, как игрушка в его руках.
Гельмут побледнел, как мертвец; то, в чем он не признавался сам себе, не смел признаться, было открыто и безжалостно брошено ему в лицо.
— Элеонора, — прерывающимся от гнева голосом промолвил он, — ты пользуешься своим положением женщины, чтобы безнаказанно оскорблять меня! Если бы что-нибудь подобное осмелился сказать мне мужчина…
— Ты, наверное, вызвал бы его на дуэль! — перебила она. — Но мог бы ты уличить его во лжи?
Молодой барон замолчал при этом предательском вопросе. Конечно, он вызвал бы оскорбителя на дуэль, но и с пистолетом в руках чувствовал бы, что тот сказал правду. Теперь он должен был воспринимать правду из этих уст; он не слышал, как дрожал голос обычно энергичной, гордой девушки, не видел, как слезы, словно туманом, заволакивали ее глаза; он слышал только горький упрек в ее словах, и его смертельно раненная гордость возмущалась, но он не находил ответа.
— Если ты явился к нам как датчанин, — продолжала Элеонора, — как враг народа, мы должны были бы снести это, и в этом была бы твоя добрая воля, твое убеждение. Но у тебя нет никаких убеждений, как нет и отечества. Не возмущайся так, Гельмут! Хоть раз ты должен услышать от меня правду, иначе ведь никто не осмелится высказать ее тебе. Как часто мне приходилось слышать, чем бы должен был быть барон Мансфельд для своей страны, для своего народа, на чьей стороне следовало бы ему стоять, и, когда все осуждали тебя, я вынуждена была молчать. Но все же, — здесь голос Элеоноры прервался и самообладание покинуло ее, — но все же я отдала бы жизнь, если бы могла назвать их лжецами. Я не могу выносить это!