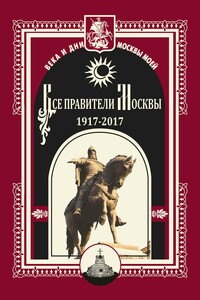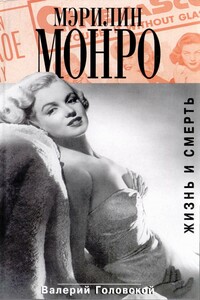Людмила Гурченко | страница 62
Но все действительно должно было прийти в свое время.
…Оно впервые забрезжило в давней забытой «Дороге на Рюбецаль», фильме о войне. Режиссер А. Бергункер, пригласив Гурченко на роль Шуры Соловьевой, предоставил ей свободу действий: роль была небольшой, здесь вполне достаточно было бы нескольких ярких штрихов, а Гурченко это делать умела как никто.
Гурченко в двух эпизодах сыграла судьбу.
Ее Шура Соловьева оказалась единственным живым и трогающим душу образом фильма.
Все его герои словно бы начинали на экране свою жизнь и ее заканчивали с титром «Конец». Они были знаками времени и не обнаруживали индивидуальных черт — и советская партизанка Людмила, и немец-антифашист Николай. Волнуют ситуации и коллизии, но не характеры и судьбы. Людмила и Николай любят друг друга, и мы в зале, наблюдая эти трогательные сцены, как-то не задумываемся о том, как трагична, в сущности, судьба любви между русской и немцем в годы Великой Отечественной, когда в каждом немце виделся враг. Мы видим, как трудно любви на войне, под разрывами, но словно бы не помним, как тяжко и беспощадно клеймила такую любовь народная молва.
События картины существовали как бы над психологическим климатом времени и развивались вопреки ему. От этого возникало ощущение неправды.
Драматурги и режиссер создавали на экране трагическую коллизию. Но внутреннего трагизма в ней словно не чувствовали. Эта нота трагизма пришла в фильм вместе с героиней Гурченко.
Шуру Соловьеву в этом как бы очищенном от быта фильме мы заставали за сугубо бытовым занятием — вечным, необходимым и в мирное и в военное время. Она развешивала на заборе выстиранное белье, в руках ее был таз, она тонула в широком мужском пиджаке, и волосы были убраны под тугую, завязанную надо лбом косынку. Она занималась делом, потому что жизнь и на войне не останавливается и белье приходится стирать.
У нее резкий, пронзительный голос. Огрубела, изверилась во всем и живет по-волчьи одиноко, всеми ненавидимая.
К ней прилипло прозвище — «немецкая подстилка».
Бабье горе настигло ее раньше, чем началась война, — муж погиб по пьянке. Одиночество ожесточило. От одиночества и любовь с немцем теперь крутит — да какая там любовь: «Просто привыкла… Ну, немец, ну, не наш — да черт с ним, хоть душа живая рядом…»
Так она рассуждает.
Но что-то приковывает наше внимание к этой крикливой бабе. Может быть, вот эта принявшая уродливые формы, но неистребимая сила жизни, которая, несмотря ни на что, продолжается. Этот запас добра, который таится где-то в глубинах обросшей корой души.