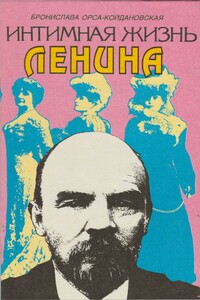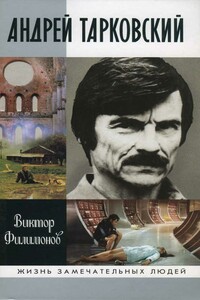Господин Пруст | страница 32
Помню один случай из самого первого времени, который так расписали, будто в первое воскресенье нашего отшельничества я оделась, как для мессы. Я каждый день одевалась для мессы, которая для меня происходила здесь, на бульваре Османн. На самом деле это был обычный день и, конечно, как всегда у г-на Пруста, вечером, а не в церковный час. Может быть, он заговорил о моей семье, моем детстве. Помню только, что я сказала ему:
— Видите ли, сударь, вот в чем дело. У вас я совсем никуда не выхожу, кроме как по вашим поручениям. Однако матушка воспитывала меня так, чтобы я ходила к мессе каждое воскресенье. А здесь я не только не хожу — почти и не вспоминаю.
Я говорила это без упрека, по одной только непосредственности, как ребенок. Он спокойно смотрел на меня с постели и ответил совсем тихо:
— Селеста, ведь вы делаете то, что куда достойнее и благороднее, чем ходить к мессе. Вы жертвуете своим временем ради больного. Это бесконечно возвышеннее.
Он был прав. Впрочем, мне кажется, это был единственный случай, когда могло показаться, будто я жалуюсь.
Вспоминая о начале моей службы, когда я уже осталась наедине с ним, я думаю, что главная разница между мною и кем-нибудь другим, например, Никола, была в самом подходе к делу. Он исполнял его чисто автоматически, но я бегала взад и вперед, занималась если не тем, так этим: кофе, уборка, телефонные звонки — или сходить за чем-нибудь, отнести письмо, разложить по местам газеты и бумаги, пока эти кучи не вытеснили самого г-на Пруста из постели, топить камин, наливать ванну для ног — и все это легко, как пение птицы, которая перепрыгивает с ветки на ветку. Бывало, я замертво валилась от усталости, но то ли не осознавала этого, то ли просто не думала, как не вспоминала о мессе, потому что мне ни единой секунды не было скучно. С одной стороны, все шло как по нотам, но с другой — постоянно возникало что-нибудь неожиданное: приветливый жест, или интересный разговор, или его радость от собственной или чьей-то работы. А может быть, я просто не считала это своей профессией, и мне было легко. За все эти восемь лет ни одного раза не возникло и речи, что я останусь насовсем. Когда Одилон вернулся с войны, он сказал мне: «Ну и ну, кто бы мог подумать, что ты окажешься здесь!»
Я уже говорила, что очень быстро вошла в ритм жизни, то есть в то особенное, неповторимое время, внутри которого не жил никто. Там не считали часы. Все зависело от его работы и того, что было для нее необходимо, от явившегося вдруг желания, от удовольствия или неудовольствия проведенных в гостях вечером, от какой-нибудь встречи или приходившего визитера, со всеми последствиями для его болезни. Вначале я продолжала по привычке вставать довольно рано, да и он еще не задерживал меня позднее полуночи или часа. Прежде чем уйти, я делала все, как учил Никола: убирала от постели серебряный поднос и ставила вместо него на ночь лаковый с бутылкой воды «Эвиан», маленькую чашечку и сахарницу, если бы ему захотелось сделать себе питье на электрическом кипятильнике, чего, впрочем, никогда не бывало; за восемь лет мне ни разу не случилось унести хоть одну бутылку «Эвиана», из которой он отпил бы даже каплю.