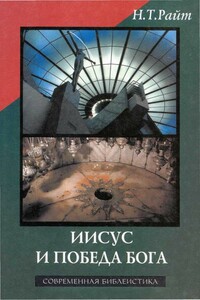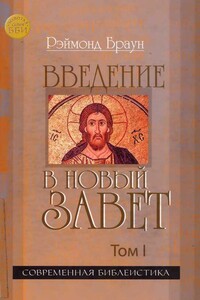Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение | страница 14
• Большинство библеистов признают огромную роль идеологии в процессе развития традиции. Традиция передавалась не роботами, а живыми людьми, — пусть мы не знаем их имена, — которые жили в конкретных социально–экономических условиях, которых волновали социальные и имущественные проблемы, свои и чужие. Здесь наглядно видно обстоятельство, замеченное еще марксистами: «истина» всегда фильтруется через «интерес». Сам Маркс больше имел в виду интересы экономические, но легко видеть, как на развитие традиции наложили отпечаток также интересы тендерные, расовые, классовые и этнические (Jobling 1998; Schwartz 1997). Если смотреть в ретроспективе, текст оказывается в этом смысле небезупречным. Как отмечает Дэвид Браун, по ходу своего развития традиция может подвергать критике более ранние (и, казалось бы, устоявшиеся) этапы. Не будем забывать, однако, что и каждая последующая критика (в частности, моя собственная) отнюдь не нейтральна: она тоже отражает определенный социальный контекст и интересы.
• Согласно учениям иудаизма и христианства, библейский текст является богодухновепным. (Библейские критики с присущим им скептицизмом относятся к подобным утверждениям.) Эта доктрина, которая по–прежнему сохраняет свое значение в религиозных общинах, — не знак обскурантизма и зашоренности, но отражение церковного опыта: общинам ведома ценность этих текстов как бесценных свидетельств о смысле жизни и о том, как эту жизнь достойно прожить.
Как известно, учение о богодухновепности Библии имеет свои тонкости и сложности. Для начала, имея в виду «творческое воображение», можно сказать так: библейский текст «вдохновлен», как «вдохновлено» любое гениальное или талантливое произведение искусства. Никто ведь не спорит, что в минуту вдохновения художники способны создавать удивительные шедевры. И уж, конечно, ветхозаветные сказители, певцы и поэты создавали шедевры шедевров.
Впрочем, под «богодухновенностью» Библии христиане имеют в виду нечто гораздо большее: эти тексты «дышат» волей Божьей и присутствием Божьим. Это не обязательно означает, что Дух Божий «диктовал» слова напрямую (как бы нашептывая их авторам в ухо): речь идет лишь о том, что в своем развитии традиция показывает реальность в свете святости ГОСПОДНЕЙ. Так нам открывается — или, точнее сказать, «приоткрывается», ибо эти реальности не могут быть полностью постигнуты при помощи человеческого воображения или идеологии, — нечто очень важное о жизни мира и действии Бога в мире. Поэтому в Церкви (в ходе процесса передачи традиции!) мы дерзаем говорить трепещущими устами: «Слово Господне… Благодарение Богу».