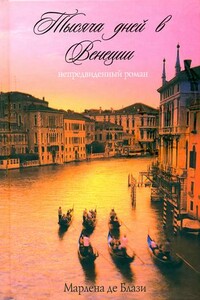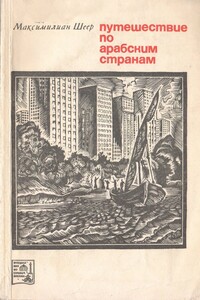Тысяча дней в Тоскане. Приключение с горчинкой | страница 46
Я обещала, ведь я сама на это подписалась. Я сознавала, что подписалась терпеть хныканье, ртутные переливы настроения, той же крупной росписью, которое давала мне право на все хорошее в нем. Однако я устала запаковывать и распаковывать душу. Эти его кризисы, почему-то представлявшиеся изменами, опустошали меня. И мне приходилось бороться с этим опустошением, чтобы вспомнить, как он устроен. Все его поступки — выражение его характера, единого, как плоть и кровь. Кроме того, Фернандо итальянец, он знает то, чего мне никогда не узнать. Он знает, что жизнь подобна опере — в ней много места для плача и криков и лишь изредка — для смеха. Между актами он говорит, насколько ему лучше теперь, когда он освободился от прежней сонной жизни. Говорит, что главное для него — возможность кричать, и горевать, и иногда смеяться. И самое главное — что он может плакать. Он просит любить его больше за то, что он трудный, чем за то, что он легкий. Мужчина никогда не обратится к женщине с такой просьбой, если не знает, что она уже исполнена. Однако утешать его становится дурной привычкой, в ней есть доля тщеславия, и я понимаю, что должна остерегаться.
Мы сидели в машине молча, пока я не заговорила:
— Я тебя так люблю, что ты можешь меня отталкивать, по крайней мере иногда и ненадолго. Попробую объяснить, что я иногда чувствую. Когда я с тобой встретилась, ты устал быть Фернандо, тем, другим Фернандо, которым слишком часто злоупотребляли. Ты сказал, что всегда был достойным, терпеливым, всегда готов был жертвовать собой, а люди обходились с тобой все более жестоко. Знали, что ты стерпишь. Банк, родные, друзья — все полагались на твою мягкость. Я правильно поняла?
— Именно так, — тихо подтвердил он.
— И они, один за другим, уже довольно давно обижались на тебя, когда ты отказывался впускать их в свою жизнь. Так это было?
— Именно так и было.
— Ну, так зачем же ты превращаешь меня в своего Фернандо? Разве не видишь, что ты порой обходишься со мной так, как другие обходились с тобой? Не часто и гораздо реже, чем случалось в Венеции, но мне бы хотелось, чтобы этого никогда не случалось. Когда ты орешь, я просто перестаю тебя слышать. И, защищаясь, тоже начинаю орать. Думаю, я вполне смогу этому научиться, но тогда мы оба перестанем слышать друг друга и ничего не останется, как уйти.
Он выглядит измученным и раздраженным, и, по-моему, он ничего не понял. И я отступилась, ушла в молчание, в котором ему было легче. Мне вспомнились давние обиды моего сына, уколы, на которые способен только пятилетний паршивец по отношению к сестре-четырехлетке. Помню, как я старалась внушить Эрику, что он не обязан любой ценой сохранять мир.