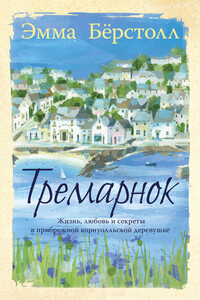Лабиринт | страница 9
— Дорогой мой,— проговорил он с мягким недоумением,— все-таки — зачем ты все это написал?
Теперь он снова сидел в своем кресле, прочно вросший в пространство между спинкой и ручками,— вначале вялый, голос его звучал все увереннее, наливаясь рокотом сочного оперного тембра.
— Понимаешь ли, дорогой мой,— психология, переживания — все это так... Но вот герой у тебя... Герой у тебя, понимаешь ли, какой-то неудачник, мямля, Гамлет какой-то, и вообще — не то... И тема, понимаешь ли, мелковата... И вообще — напускаешь мрак...
Все это я уже слышал раньше. И вскипал. Вскакивал. Разражался фейерверками... Но теперь я смотрел на него и думал: что он чувствовал там, у окна?..
— Эпоха, дорогой мой, наша эпоха требует другого. А ты... Ну сам посуди, о чем ты пишешь? Ты о молодежи пиши, о комсомольцах, о таких, знаешь ли, — с задором, с огоньком... Ты же способный парень, у тебя получится!..
— До свидания, — сказал я, поднимаясь.
— Ты погоди, — ты что, обиделся?
— Нет,— сказал я.— За что же?
— Ты погоди, — сказал Жабрин, удерживая мою руку в своей. Взгляд его на миг остановился на моем рукаве, поросшем вдоль краев реденькой бахромкой. — На стипендию живешь? — он вдруг в упор посмотрел на меня.— У тебя кто — мать, отец? Помогают?
— До свидания, — повторил я.
— Ты вот что, — сказал Жабрин, — ты приноси нам — информашку там, зарисовочку из студенческой жизни, — гонорар не бог весть, но все-таки...
— Спасибо,— сказал я.— Когда надо, мы ходим на товарную станцию. Там платят не хуже.
Конечно, тут я не мог удержаться, чтобы слегка не попижонить, не полюбоваться собой. Но в замедленном рукопожатии Жабрина я ощутил нечто вроде уважительного удивления.
Редакционный день выдыхался, но в длинном коридоре еще хлопали двери, сотрудники суматошно метались между секретариатом и машбюро, на ходу вычитывая срочные материалы.
Под табличкой «Не сорить!» одиноко и неподвижно маячила фигура Сашки Коломийцева.
«Стойкий в бедствиях» — так называли его в нашем институте за мужество, с которым он переносил разнообразные несчастья, сыпавшиеся на него начиная с первого курса, когда из-за какой-то заметки в стенгазете Сашка — единственный из студентов — был зачислен в космополиты. Коломийцеву не везло в любви. Его проваливали на экзаменах. Он вечно рыскал голодным по общежитию в поисках трешки на обед, но, получив перевод от родителей, просаживал все деньги на книги, которые у него тут же разбирали, забывая вернуть. Жабрин не печатал Сашкиных критических статей, отвергая их за чрезмерный академизм. В редакцию Коломийцев теперь заходил только вместе со мной, посочувствовать моим неудачам. И сочувствовал так бурно и вдохновенно, что на обратном пути я должен был уже утешать и успокаивать его самого.