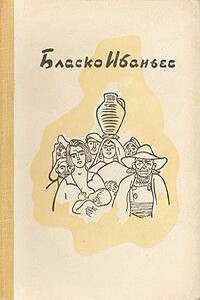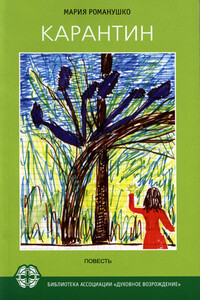Эвтаназия советского строя | страница 61
Банк – таинственное учреждение, внушающее почтительный трепет. Сдал документы в районное отделение промышленно-строительного банка (ПСБ). Отказали. Говорю: «Позвольте, в постановлении районной администрации указано: открыть счет в ПСБ». Инспекторша пожимает плечами: «Начальство отказало». Его понесло в центральное управление банка на Невском. Высидел в приемной, в председательском кабинете (в зале, где раньше сидел отец моего друга Пальмского,) трое мужиков заулыбались: «Что, районный не хочет лишние хлопоты иметь? Ну, это его дело, мы не можем на него давить». Пошел обратно, к районному банкиру, высидел в приемной, в его кабинете молча протянул ему документы. Он молча посмотрел и подписал. Счет открыли.
В истории с банком была психологическая составляющая. ПСБ – государственный банк, крупнейший в городе после Сбербанка. Учредитель рекомендовал обратиться в коммерческий банк своего приятеля. Сходил. Не понравилось – плата за обслуживание плата за обслуживание, тесное помещение, нахальные тетки с явно хамским манерами. ПСБ обслуживал клиентов бесплатно. Всё та же психология подталкивала к государственному банку – надежно, солидно, в том числе для заказчиков.
В предпраздничные дни в банке – шумное шествие клиентов с цветами и пакетами – подарками. Он тоже налаживал отношения со своей инспекторшей: скромные подношения – коробки конфет, плитки шоколада и никаких взяток. Может быть, и без этого добрая женщина помогала бы исправлять ошибки в документах, сообщать по телефону о поступлении денег на счет – делать то, что не входило в ее обязанности.
Следующая инстанция – налоговая инспекция. Карающий меч государства в сфере бизнеса. Для тех, кому этого мало, есть вторая рука – налоговая полиция. Для ещё более крепких – управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП МВД), прокуратура, госбезопасность.
В своей дальнейшей работе он общался с ними со всеми.
Руководству страны показалось, что всего этого ещё мало, в 2002 году создали службу финансового контроля (мониторинга). Что будет дальше?…
В 1990 году в налоговой инспекции было тихо и спокойно. В коридорах ещё не было очередей, время встречи заранее назначалось по телефону, столы ещё не стояли впритык друг к другу, поэтому разговор шел спокойно и обстоятельно. Инспекторша – молоденькая, но уже очень грамотно разбиравшаяся в налогах, бесстрастно отмечала ошибки, назначала новую дату приемки документов. Прелести той начальной системы выявились через несколько лет, заключались же они в том, что инспекторша принимала все налоги и отчисления! И основные налоги, и отчисления в пенсионный фонд, и во все другие фонды. В этом смысле тогда действовал принцип одного окна, который через много лет стремятся построить очередные реформаторы. А в те времена шло естественное развитие бюрократии – по законам Паркинсона – обрастание любой структуры людьми, окладами, помещениями, техникой, разумеется, за счет налогоплательщиков: появились службы сбора податей отдельно по каждому виду: пенсионному, страховому, медицинскому, фонду занятости и другим. Нелепость очевиднейшая – каждая служба обрабатывает одну формулу: умножение одной и той же величины (фонда зарплаты) на свой коэффициент. То, что раньше делала одна налоговая инспекторша. Или ее компьютер. Службы рассеялись по району и городу, до каждой из них нужно добраться в сжатые сроки сдачи отчетов. Совершенству нет предела – через несколько лет все пенсионные службы переехали в одно здание в отдаленном северном районе города. При виде этого грандиозного здания дух захватывает. Построено по грошику с пенсий, а ещё говорят, что они, пенсии, нищенские. И едут деловые люди со всего города – восхититься номенклатурным чудом и заодно сдать отчеты. Очередные реформаторы пытались устранить нелепость, ввели единый социальный налог, но крепость разрушить так и не смогли – по прежнему надо развозить отчеты по всему городу. Службы и люди на месте и при бульоне.