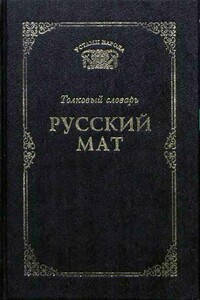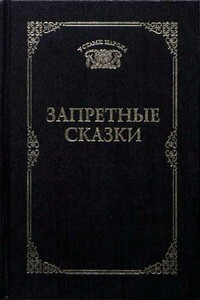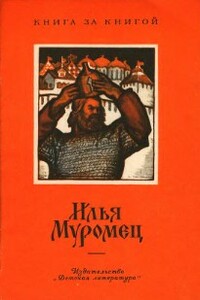Рукописный девичий рассказ | страница 5
Конечно, на такие парадоксальные психологические коллизии рукописный любовный рассказ не способен. Я не предлагаю считать искусство — литературу и кинематограф — «оттепельной» поры прямым источником жанра, но определенная генетическая связь между ними, вероятно, все-таки есть. И девичий любовный рассказ, и литература периода «оттепели» связаны с традицией городского предания, «бытового рассказа», описывающего трогательные и одновременно назидательные случаи из жизни. Фольклорная и профессиональная культура в эти годы явно развивается в одном направлении.
Стихи Асадова обращены преимущественно к девушкам. Именно девичьи образы — самые светлые и прекрасные в «балладах» поэта. Именно о девичьей любви поэт предпочитает говорить в своих назидательных стихотворениях:
Уже тот факт, что творчество поэта было адресовано девичьей аудитории, имеет очень серьезный смысл, оценить который можно только в исторической ретроспективе.[5]
Идеологический дискурс первых лет советской власти отводил молодежи исключительно важную роль авангарда в строительстве коммунизма. В соответствии с этим дискурсом, молодые люди не были отягощены наследием буржуазной морали и должны были стать основной движущей силой в ее преодолении. Эта идеологическая модель неоднократно описывалась в научной литературе последних лет. Реже замечалось другое: говоря о прогрессивности молодежной культуры, идеологи и теоретики «по умолчанию» имели в виду исключительно ее «мужскую» версию. Характерно, что произведения советской детской литературы довоенной поры в большей своей части адресованы мальчикам. Культурные практики мальчиков-подростков воспевались в произведениях Аркадия Гайдара, в то время как произведения Лидии Чарской, бывшие «культовыми» среди читательниц-гимназисток дореволюционной поры, изымались из библиотек. Попытки создать советскую литературу для девочек предпринимались время от времени (наиболее известный пример — повесть Рувима Фраермана «Дикая собака Динго»), но были случайными и непоследовательными.