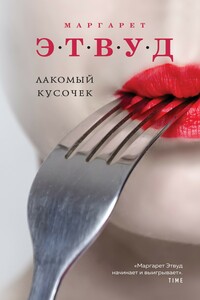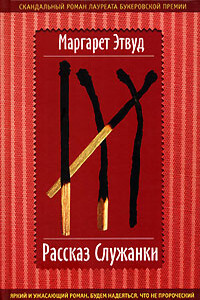Пожирательница грехов | страница 87
— Я абсолютно не в курсе, — брезгливо ответила библиотекарша. — Это передвижная выставка.
Человек в фетровой шляпе сидел в засаде у выхода. Он предложил сходить в ресторан. Должно быть, он тоже остановился в гостинице.
— Нет, благодарю вас, — сказала я и прибавила: — Я здесь не одна. — Я сказала это, чтобы его не обидеть, — женщина всегда старается отшивать мужчину как можно мягче. А потом я поняла, что оказалась тут не затем, чтобы убежать от тебя, а чтобы остаться, полнее, чем если б ты был рядом. Во плоти твоя ирония была непробиваема, но в одиночестве я могла сколько угодно погибать и воскресать снова. Никогда не понимала людей, для которых юность — время свободы и счастья. Наверное, они просто забыли собственную юность. Сейчас, окруженная меланхоличными юными лицами, я могу только благодарить бога, что вырвалась и, надеюсь, безвозвратно (ибо я больше не верю в реинкарнацию), из невыносимых пут двадцати одного года.
Я сказала тебе, что уезжаю на три дня, но мои фантазии требовалось разбавить реальностью. Салем был как вакуум, и ты постепенно его заполнял. Я знаю, чей это был локон в черно-золотом memento тоri,[20]знаю, чей голос мне слышался в пустом гостиничном номере слева от моего, чье почти неуловимое дыхание в перерывах между спастическими всхлипами батареи. К счастью, в полдень уходил поезд, я села на него и помчалась обратно в настоящее.
Я позвонила тебе с Бостонского вокзала. Ты принял мой ранний приезд с присущим тебе фатализмом — ни радости, ни удивления. Тебе нужно было написать работу о неоднозначности в поэме Теннисона “Локсли Холл”, а это, сказал ты, совершенно исключено. В те времена людям всюду мерещилась неоднозначность. И мы просто отправились гулять. Потеплело, снег таял, превращаясь в кашицу. Мы дошли до реки Чарлз, и лепили снежки, и бросали их в воду. Потом мы слепили сырую статую королевы Виктории с выпирающим бюстом, монументальным турнюром, крючковатым носом, и разбомбили ее снежками и льдинками, иногда впадая в неуемную смешливость — тогда я думала, что это беззаботность, но теперь вижу, что просто истерика.
А потом, а потом… Во что же я была одета? На мне, конечно, было пальто, уже другая юбка, клетчатая, противного зеленого цвета, тот же свитер с прожженной дыркой. Мы катались по сырой ледяной горке у реки, моя озябшая рука в твоей. Был вечер, холодало. Иногда мы останавливались, прыгали и целовались, чтобы согреться. На маслянистой глади реки, словно яркие миражи, отражались башни и колокольни, с которых во время весенних экзаменов будут сбрасываться отчаявшиеся студенты — такое случалось каждый год; в грязных речных глубинах таились литературные персонажи-самоубийцы, в том числе герои Фолкнера, — оседающие кристальным налетом слов, сверкающие, как глаза; но мы безумствовали и не боялись их, и пели с издевкой, неровным дуэтом: