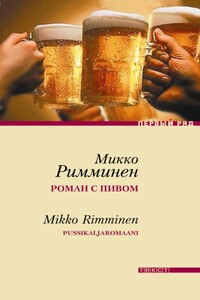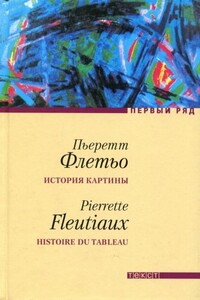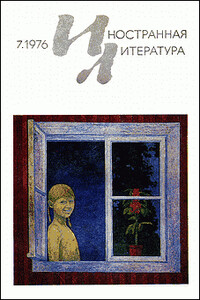Фальконер | страница 71
— Я выберусь отсюда в четыре, — сказал Маршек. — Ни разу в жизни еще так не хотел убраться отсюда, как сегодня. Смотаюсь в четыре, приду домой и выпью целую бутылку «Сазерн камфорт», а если не хватит — выпью еще бутылку. Если после этого смогу наконец забыть все, что я видел и слышал здесь за последние пару часов, то выпью еще одну. Вернуться я должен только в понедельник, к четырем, а все дни до этого я намерен пить, не просыхая. Когда изобрели атомную бомбу, люди волновались, что она вдруг взорвется и поубивает всех; они не знали, что в каждого из нас напихано столько динамита, что вся планета может разлететься на куски к чертям собачьим. Уж я-то знаю.
— Тогда почему вы пошли сюда работать?
— Не знаю, почему я сюда пошел. Дядя настоял. Старший брат моего отца. Отец всегда и во всем ему доверял. Дядя сказал, что мне подойдет эта спокойная работенка в тюрьме, через двадцать лет выйду на пенсию с половинным окладом и начну новую жизнь. Смогу заняться чем-то стоящим. Открыть автостоянку. Выращивать апельсины. Построить мотель. Только вот он не знал, что в таком месте, как это, нервы сдают очень быстро, и тебе уже плевать на все перспективы. Сегодня после обеда меня вырвало. В кои-то веки дали нормальный обед — турецкий горох с куриными крылышками — и вот меня вырвало, прямо на пол. Ничего не удержалось в желудке. Через каких-нибудь двадцать минут я сяду в машину и поеду домой, на Хадсон-стрит, 327, достану с верхней полки бутылку «Сазерн камфорт», возьму стакан на кухне и попытаюсь все забыть. Когда напечатаешь объявления, занеси их ко мне в кабинет. Тот, где много всяких цветов. Дверь открыта. Толедо их заберет.
Маршек закрыл стеклянную дверь. Радио молчало. Фаррагат напечатал: ЛУИЗА ПИЕРС СПИНГАРН, В ПАМЯТЬ О СВОЕМ ЛЮБИМОМ СЫНЕ ПИТЕРЕ, ПОЖЕРТВОВАЛА ДЕНЬГИ НАТО, ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ МОГЛИ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ И БЕСПЛАТНО ОТОСЛАТЬ ФОТОГРАФИИ ЛЮБЯЩИМ РОДСТВЕННИКАМ. ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ. ФОТОГРАФ ПРИДЕТ 27 АВГУСТА В 9:00. РАЗРЕШАЕТСЯ НАДЕТЬ БЕЛУЮ РУБАШКУ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ С СОБОЙ ЧТО-НИБУДЬ, КРОМЕ ПЛАТКА.
Фаррагат погасил свет, закрыл за собой дверь и пошел по туннелю к открытой двери в кабинет Маршека. В кабинете было три окна и полным-полно цветов, как и сказал охранник. Снаружи окна были забраны вертикальными железными прутьями, но изнури Маршек прибил горизонтальные планки, с которых сейчас свешивались цветы. Цветов было много, штук двадцать, а то и тридцать. Цветы, думал Фаррагат, любят те, кто по-настоящему одинок, — мужчины и женщины, сгорая от страсти, тщеславия и ностальгии, поливают свои цветы. Заботятся о цветах и, догадывался Фаррагат, разговаривают с ними — как разговаривают с дверьми, столами и ветром в трубе. Только некоторые из цветов Маршека были ему знакомы. Он узнал папоротник; папоротник и герань. Фаррагат оторвал лист герани, размял его в пальцах и понюхал. Пахло геранью — тяжелый, сложный запах, похожий на тот, который часто бывает в старых, плохо проветриваемых помещениях. Вокруг было много других цветов с листьями самой разной формы; одни напоминали по цвету краснокочанную капусту, другие были коричневыми или желтыми, совсем не похожими на яркие осенние листья, нет, это цвет смерти, заложенной в сам