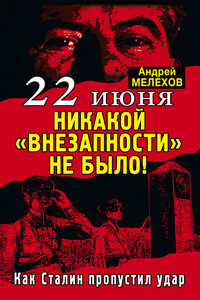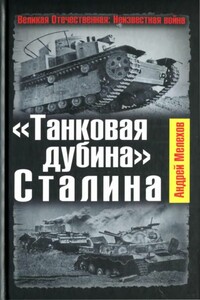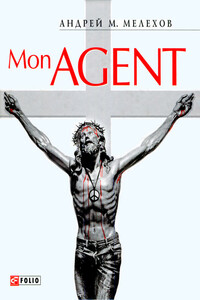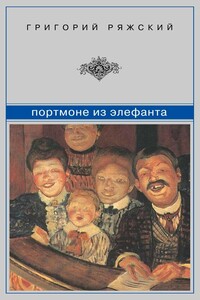Malaria: История военного переводчика, или Сон разума рождает чудовищ | страница 26
— Как будто из ЗАГСа выходят! После бракосочетания! Не осознав всей тяжести совершенной ошибки! Ну что, в какую задницу тебя засунули, гвардеец?
Молодые люди, пытаясь сохранить невозмутимый тон крутых парней, к которым тетке Фортуне лучше не поворачиваться задом, отвечали:
— Батальон коммандос, Северный фронт…
— Бортпереводчик на вертолет JVC… А что такое JVC?
— А меня здесь оставляют, на военно-морской базе…
— Уамбо — в управление Западного фронта…
— Кабинда…
— Разведотдел…
— Военное училище…
Понятное дело, что без помощи ветеранов большинство из них не смогли бы оценить, куда их в ближайшее время забросит судьба. Так, например, выяснилось, что JVC — это прозвище Главного военного советника. Что переводчик при батальоне коммандос отнюдь не обязан летать с этим самым спецназом на их операции в джунглях. Что скучно звучащее «управление Южного фронта», как раз наоборот, предполагало возможность посещения самых опасных мест в Африке. Как оказалось, «кадровые» переводчики в целом отдавали предпочтение Луанде. Конечно, климат здесь был самый что ни на есть гнусно-тропический, начальство наблюдалось в повышенной концентрации, а овощи и фрукты получались самыми дорогими в стране. Зато в столице имелись валютные магазины, огромные рынки и широкие возможности для спекуляции и других способов валютного приработка для вечно рыщущих, как голодные волки в поисках добычи, советских граждан. Привлекательность всех остальных мест определялась интенсивностью боевых действий, степенью сохранности инфраструктуры и все тем же климатом. Обычно, чем суше и прохладнее он был, тем меньше оказывались шансы подхватить что-нибудь вроде малярии или желтой лихорадки и тем больше имелось надежды на сохранение здоровья в долгосрочной перспективе. Но по злой иронии судьбы, почти все районы Анголы с более или менее приемлемым климатом являлись, как правило, театрами ожесточенной борьбы с партизанами. В то же время и Луанда, и нефтеносный анклав Кабинда, несмотря на жуткие влажность и жару, были относительно спокойными с военной точки зрения местами.
Лейтенант, как и все остальные, принимал живое участие в разговорах с уже получившими назначение офицерами. С одной стороны, он, разумеется, боялся неизвестности. Еще больше он опасался того, что по какой-то причине не сможет хорошо выполнять свои новые обязанности. Но, несмотря на инстинкт самосохранения, наперекор здравому смыслу и заветам родителей, его тянуло навстречу возможной опасности. Много раз бессонными ночами он пытался проанализировать свою иррациональную зависть по отношению к тем, кто побывал на войне. Очевидно, что дело было не в патриотизме. Ведь в конце концов, здесь, в Анголе, он не защищал свою страну от агрессора и не выступал на стороне обиженных против чудовищной несправедливости. Почему же ему так хотелось совершить нечто героическое даже ценой ран и потерянного здоровья? Наверное, Лейтенанту стало бы легче, если бы он знал, что, казалось, необъяснимое с точки зрения здравого рассудка желание повоевать испокон веку свойственно бесчисленным поколениям молодых и здоровых мужчин, соревнующихся за право лидерства. Разумеется, он не был одинок. Многие из его сослуживцев маскировали это тайное желание пройти испытание огнем показными признаниями в трусости и желании «закосить». Главные идеологи страны, наверное, сначала бы не поверили, а потом зарыдали от умиления, узнав, что, несмотря на тупость советской пропаганды, в Красной Армии по-прежнему встречались чистые, интеллигентные, глупые мальчики, готовые пожертвовать многим, чтобы получить право считать себя настоящими мужчинами.