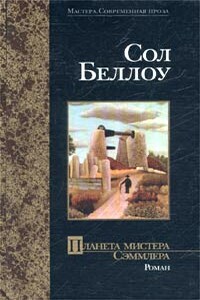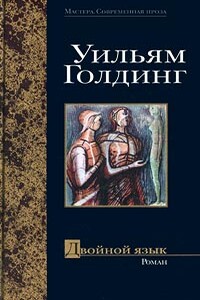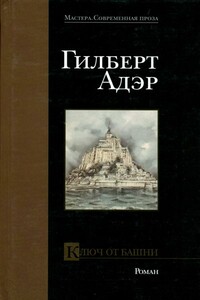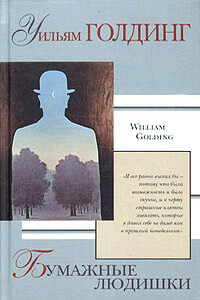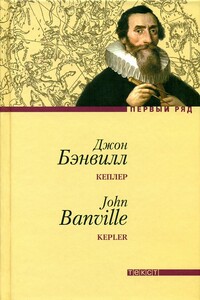Афина | страница 52
Изо всех наших греховных мгновений именно это, предваряющее и в сущности невинное, я вспоминаю особенно живо, с особенно мучительным, острым страданием. Помню её решительную улыбку, когда она отстранила меня и принялась методично расстёгивать пуговки на чёрной блузе. Теперь она сидела на краю постели, а я стоял над нею всё ещё в своём старом макинтоше, должно быть, с приоткрытым ртом и тяжело дыша, как старый бык на подкашивающихся ногах. Помню тёмные углубления возле её плеч и сами плечи, изящно вздёрнутые, на правом — круглый белый отсвет от окошка, и её необыкновенные, маленькие, похожие на сжатые кулачки, груди с взбухшими сизыми, будто синяки, сосцами. Резинку лыжных штанов скрывала на животе мягкая белая складка, по следу от неё мне хотелось провести языком. Она скинула туфли, высвободила пятки из штрипок, и эластиковые штанины обмякли, как шкурки от воздушных шариков. Её крохотные румяные стопы со странно расходящимися пальцами говорили о босоногом детстве где-нибудь у моря, среди магнолий и разноцветных крикливых птиц. О моя Манон, где ты? Где ты…
Но тут снизу донёсся стук в парадную дверь. (Может быть, всё-таки это сцена из спектакля.) Всё сразу резко переменилось. Мы виновато посмотрели друг на дружку, как нехорошие дети, застигнутые за чем-то гадким. Я заметил, что выше локтя у неё на руках гусиная кожа, а соски съёжились и на плечах остались голубые бороздки от бретелек. Стук повторился, странно ненавязчивый и от этого только ещё более повелительный. Сердце моё рванулось и стреноженное взвилось на дыбы. «Не отзывайся», — шепнула А. Вид у неё был не столько встревоженный, сколько озадаченный, она хмурилась, отвернувшись к окну, и кусала ноготь на большом пальце; этот стук за сценой не предусматривался в известных ей ремарках. Она рассеянно принялась одеваться. Я же, несмотря на испуг, набухая восхищением, наблюдал, как она, ловко передёрнув плечами, устроила свои маленькие скачущие груди в узких кружевных гнёздах и просунула прямые руки в рукава чёрной блузы, так что, когда я повернулся и побрёл вон из комнаты на заплетающихся ногах, с глазами кролика, утирая пересохшие губы тыльной стороной кисти, я был в состоянии такого возбуждения, что спускался по ступеням чуть ли не на четвереньках. На пятереньках.
Парадная дверь смотрела мне навстречу с затаённым злорадством, словно ей не терпелось распахнуться и напустить на меня орущую орду обвинителей. Какое пророческое предчувствие внушило мне этот страх? Но когда я открыл дверь (она с размаху ударилась об наружную стену, издевательски вереща петлями), я про себя по-лошадиному заржал от облегчения, хотя кого или что я ожидал увидеть, не знаю. На пороге, в извиняющемся поклоне, обрызганный дождём, стоял давешний тип с большой круглой головой, которого я заметил на противоположном тротуаре, — помните его? Он уже поднял руку, чтобы постучать в третий раз, и теперь поспешно опустил, обрадованно улыбнулся, прокашлялся и сказал: