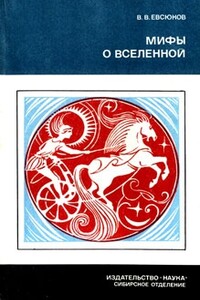Статьи по семиотике культуры и искусства | страница 6
В свое время появление каждой новой работы Лотмана становилось событием. Его лекции собирали огромную аудиторию, и властям (например, в Москве) не раз приходилось принимать специальные меры для сохранения общественного порядка. За лотмановскими книгами выстраивались длиннейшие очереди. Он был — без какого-либо преувеличения — властителем умов и героем интеллигенции. Он получил международное признание, ему посвящались конференции, о нем писали во всем мире[7].
Между тем, когда схлынула первая мощная волна семиотической моды, в аудитории возникло ощущение некоторой пресыщенности. Резкие социальные сдвиги сказались на интеллектуальном климате, и сравнительно легкая доступность научной информации, ранее дефицитной, породила иллюзию, что с семиотикой «уже все ясно». Так или иначе, в первой половине 1990х В. Н. Топоров, один из лидеров отечественной семиотики, имел основания писать: «Новое поколение исследователей нередко склонно более строго судить результаты „тартуско-московского“ семиотического движения, и чрезмерные комплименты постепенно уступают место равнодушию или даже упрекам, не желающим считаться с реалиями положения в нашей науке и нашей жизни. Нужно иметь в виду, что результаты этого движения не ограничиваются только его научной значимостью. Оно было, несомненно, и событием во всей нашей культурной жизни, и далеко не все плоды этого события востребованы и осмыслены»[8]. С этим нельзя не согласиться.
Сейчас труды Лотмана изданы большими тиражами. Его портреты можно видеть на университетских кафедрах разных стран рядом с портретами других классиков науки. Значит ли это, что он по-настоящему прочитан?
Тому, кто читал и перечитывал Лотмана в разные годы жизни, знакомо ощущение, будто в его текстах, помимо уже усвоенной информации, заключена энергия «самовозрастающего логоса». Иными словами, его научному наследию словно передались свойства самой творческой личности, и прежде всего — способность к непредсказуемому саморазвитию. А это значит, что аудитория, которую «отбирают» лотмановские тексты, открыта для продолжения диалога.
Это напоминает мне об одном классическом примере — «Менинах» Веласкеса. Мастер построил композицию с такой точки зрения, чтобы каждый новый зритель становился полноправным участником гениально замысленной семиотической игры (о чем с блеском писал Мишель Фуко в первой главе книги «Слова и вещи»). Если учесть, что в свое время именно с этой точки зрения на картину смотрели испанские короли, можно быть уверенным, что при всякой новой постановке спектакля, спланированного Веласкесом, зрителю обеспечено место в «королевской ложе».