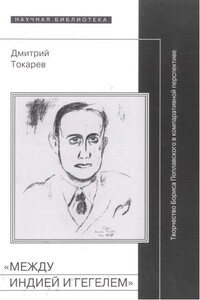Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия | страница 47
«Множество присвоенных лабиринту значений, — пишет О. Пас в эссе «Диалектика одиночества» (1950), — перекликаются между собой, делая его одним из самых богатых и смыслоносных мифологических символов»[178]. Разные уровни многозначности «лабиринта» — от культового смысла до психологического — раскрывает в «Энциклопедии символов» Г. Бидерманн. Лабиринты, указывает он, «имели значение культовых символов и в пределах небольшого пространства демонстрировали долгий и трудный путь посвящения в тайну». Символический смысл этот образ обретает благодаря тому, что «во многих сказаниях и мифах разных народов рассказывается о лабиринтах, которые герой должен пройти, чтобы достичь высокой цели». В психологическом же смысле «лабиринт есть выражение «поисков центра» и его можно сравнить с незавершенной формой мандалы»[179].
И к этой многозначности необходимо добавить постмодернистское — «ризому-лабиринт». Получив теоретическую разработку в совместной работе Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Ризома» (1976), «лабиринт» по-своему осмысливается, скажем, У. Эко в «Заметках на полях "Имени розы"»[180] и как ризома выявляется в постмодернистской сути автором «Онтологического взгляда на русскую литературу» (1995) Л.В. Карасевым в дискуссии «Постмодернизм и культура»: «Лабиринт (он же — ризома, переплетение пустотелых корней-смыслов), полумрак, мерцание свечей, зеркало, в котором бесчисленно повторяются неясные очертания лиц и предметов, — вот подлинный мир постмодернизма, то символическое пространство, где он может проявить себя в полной мере»[181].
Хотя все эти смыслы и расширяют ассоциативно-семантическое пространство метафоры лабиринта Робб-Грийе, у него, как у Х.Л. Борхеса или У. Эко, свой персональный образ-миф лабиринта. Для Борхеса лабиринт — «явный символ вмешательства» «или удивления, из которого, по Аристотелю, родилась метафизика». «Чтобы выразить это замешательство, — как поясняет Борхес, — которое сопровождает меня всю жизнь… я выбрал символ лабиринта, вернее, мне понадобился лабиринт»[182]. Рационально-образным пониманием лабиринта как состояния (или предсостояния) поиска близок Борхесу и Эко, заявивший в своих «Заметках на полях», что «абстрактная модель загадки — лабиринт». Ибо, по Эко, и «медицинский диагноз, научный поиск, метафизическое исследование», как и романный детективный сюжет, — в равной мере догадка. «Ее модель — лабиринт, пространство — ризома»[183].
При всей смысловой бинарности и полизначности лабиринт у Борхеса и Эко — реальность поиска (или устремленности к нему), у Робб-Грийе — это