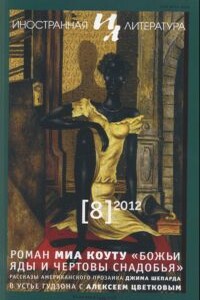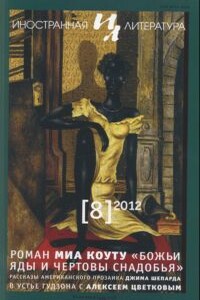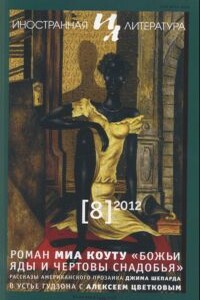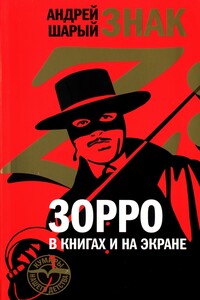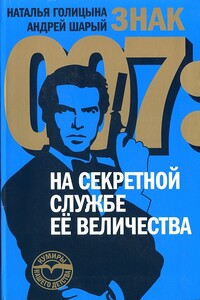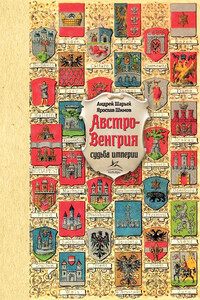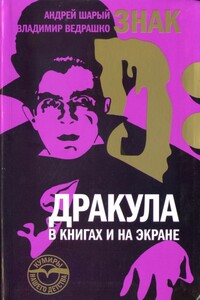Московский глобус | страница 7
Статус главного города своего государства и Москва, и Прага вернули себе почти одновременно, в 1918 году. Первые десятилетия XX века в архитектурной судьбе этих городов отозвались очень по-разному. Идеология власти и в Чехословакии, и в Советском Союзе подверглась коренному пересмотру — с той существенной разницей, что новые хозяева Града были людьми того же цивилизационного круга, что и старые. Поэтому пражскую крепость, превратившуюся из центра провинциальной администрации в штаб президентской власти, бережно и с любовью достраивали, а в Кремле, где воцарилась советская державная мощь, многое уничтожали, а большую часть оставшегося радикально изменили. В 1929 году, к тысячелетней годовщине смерти святого Вацлава, наконец-то (не прошло и шести веков) чехи завершили возведение посвященного ему и двум другим святым В. величественного собора. Пышный западный фасад храма с восьмидесятиметровыми башнями в неоготическом стиле проектировал в последние габсбургские десятилетия Йозеф Мокер, по его чертежам и заканчивали стройку уже в республиканский период. А общей реконструкцией Града руководил бывший соотечественник чехов и словаков, словенский архитектор Иоже Плечник.
Новации Плечника — его проект модернизации выиграл специальный конкурс — в то время у поборников старины вызывали споры, зато теперь они вызывают всеобщее восхищение. В современной Чехии Плечника принято считать предтечей архитектора Йо Минг Пэя, который полвека спустя построил во дворе Лувра знаменитую стеклянную пирамиду; якобы это тот же случай, когда новая эстетика выгодно подчеркивает достоинства старой. В любом случае умение Плечника, чуть подправив и по-своему подчеркнув детали, придать сложному замковому ансамблю гармонию единого стиля, никем из специалистов под сомнение не ставится. Внутренние дворы Града словенский мастер придумал вымостить серой плиткой так, чтобы, где надо, прикрыть, а где надо, обнажить исторические наслоения; вечным дежурным у главного храма он поставил элегантный и не портящий общего архитектурного пейзажа монолит-леденец из гранита в память о жертвах Первой мировой. Любопытно, что некоторые объекты Града очень долго оставались частной собственностью. Пряничные домики на Златой уличке, в которых веками селились ремесленники и мелкие торговцы, государство выкупило у владельцев только к концу 1950-х годов.
Чехословацким коммунистам не пришло в голову возвести посередине древнего комплекса что-нибудь вроде Военной школы им. ВЦИК или Дворца съездов, уничтожив при этом исторические здания. Как и сто, как и триста лет назад, в Граде все в наличии: четыре крепостные башни, четыре храма Божьих (Святых В., В. и В., Святого Георгия, Святого Креста и Всех Святых), один бывший, закрытый в 1782 году монастырь, а также три огромных дворца, два пышных (Старый и Новый королевские) и еще один поскромнее, некогда он принадлежал дворянскому роду Лобковицей. Московский историк Петр Паламарчук в книге «Сорок сороков» приводит такую трагическую статистику: из 54 сооружений, сто лет назад находившихся внутри периметра кремлевских стен (считая отдельно каждую теремную церковь и все фрагменты комплекса Большого Кремлевского дворца), к концу XX века уничтожили 28. К 1917 году в Кремле существовал 31 храм с 51 престолом. Разрушили, взорвали 17 церквей с 25 престолами, в их числе древнейшие — церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору и собор Спаса Преображения на Бору; женский Вознесенский и мужской Чудов монастыри. «Более всего претит мне смехотворный трепет, с каким свершается… осквернение святыни: предметом неподдельной гордости служит тот факт, что старинный памятник не только сровняют с землей, но похоронят заживо в дворцовой ограде. Вот таким образом примиряют здесь официальный культ прошлого с пристрастием к комфорту… Что не смог сделать враг, то совершается теперь», — Адольф де Кюстин написал это задолго до большевистского переустройства Кремля в книге «Россия в 1839 году