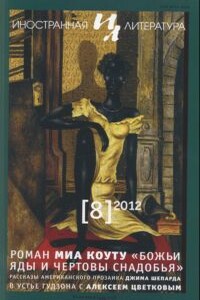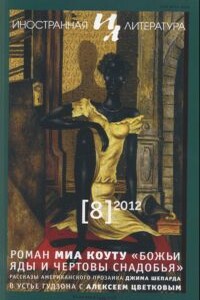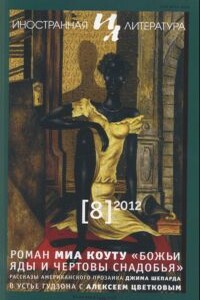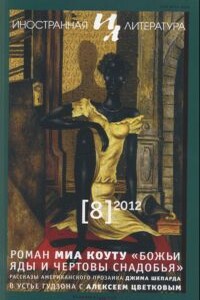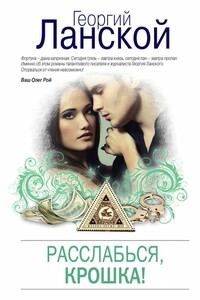Божьи яды и чертовы снадобья. Неизлечимые судьбы поселка Мгла | страница 40
— Это, дорогой мой Сидониу, не любовь, а любийство.
Сейчас Бартоломеу Одиноку затаился в темной гостиной, как хищник в засаде. Он подглядывает за женой, которая тяжелым шагом ходит из угла в угол. Зачем она там шарит по шкафам и комодам? Подозрение пронзает грудь старого мужа. Может, врач велел ей искать забытую папку? Может, она выполняет тайное поручение португальца?
От горьких сомнений печень подступает к горлу. Он с гримасой глотает горечь. Но тревога ложная. Мундинья всего лишь хлопочет по дому. Открывает шкафы, расставляет по пустым полкам ту пустоту, что у нее в душе. Смахивает пыль с прошлогоднего настенного календаря, протирает влажной тряпкой изображение Тайной вечери.
Муж не поймет, напевает она или плачет. На мгновение ему снова становится тревожно: она оплакивает его? Или она плачет не о нем, а о похороненном прошлом?
— Ты что ли плачешь, жена?
Мунда вздрагивает от неожиданности, прижимает руку к груди, переводит дух со смесью облегчения и злости.
— Вылез из пещеры наконец?
— Я первый спросил. Я спросил, ты плачешь?
— Я? Плачу?
— Нет, я. И правда, кто его знает, может, это я сам плачу, но по глухоте не разберу, кто плачет.
— Дед, уж если я заплачу, то мне не остановиться.
Внутри у нее накопилось столько печалей, что они вылились бы не какой-то жалкой речушкой, а целым потоком, в котором она бы вмиг захлебнулась. И он бы захлебнулся вместе с ней, и не нашлось бы корабля, чтобы бросить ему спасательный круг. Но это ложь. Потому что Мунда все-таки иногда плачет. Плачет в определенные часы в одном и том же священном месте. Бартоломеу Одиноку об этом прекрасно знает.
— Печали, печали… Ты сама виновата: сама толкала меня к другим.
— Упреки, упреки… А я еще жалуюсь, что от тебя никогда ничего не дождешься.
— Ты мало меня любила.
— Тебе всегда всего мало.
И не ему одному. Только тем всего хватает, кто не любит. Кто любит, для того мера одна — безмерность.
Муж сопит от возмущения и нетерпения, как будто курит воздух. Красноречие жены всегда его подавляло, и, когда они препирались, она всегда умудрялась уложить его на обе лопатки. Дар слова — это как духи, которыми она любит пользоваться, но которых он ей не дарил.
— Иди-ка сюда, я тебя кое о чем спрошу. Тебе этот врач никогда не казался подозрительным?
— Ты, Бартоломеу, вечно плюешь в колодец. Мы этому португальцу по гроб жизни обязаны.
Старик трясет головой: Мунда кипячо верующая — так он ее называет. Сколько бы его ни поправляли, он настаивает на «кипячо». Потому что — Мунда сама признавалась, — преклоняя колени перед крестом, она чувствует, как кровь закипает. Бартоломеу спрашивает себя: может, там, наверху, сидит на облаке какой-нибудь бесстыжий ангел? А еще он в сомнениях: о чем она все просит и просит бога? Стоя на коленях, она, должно быть, просит за двоих, за мужа и за себя, а может, сейчас и эту сволочь доктора поминает в молитвах, он уже чуть ли не член семьи.