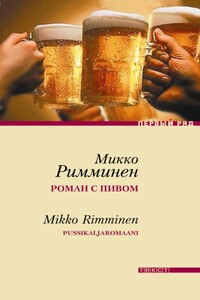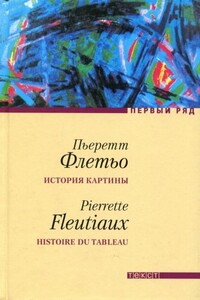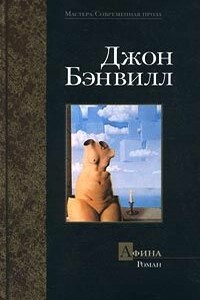Кеплер | страница 33
Еврей читывал Narratio prima[11] Лаухена, о Коперниковой космологии. Новые теории озадачивали его и забавляли.
— Но полагаете ли вы их истинными? — домогался Кеплер; старый вопрос.
Винклеман пожал плечами.
— Истинными? Вот с этим словом я не в ладах. — Когда улыбался, еще очевидней становилось, что он еврей. — Возможно — да, Солнце в центре, видимое божество, как утверждает Трисмегист. Но когда доктор Коперник это нам доказывает в знаменитой своей системе, что, я вас спрашиваю, что здесь такого удивительного, чего б мы не имели прежде?
Кеплер не понял.
— Но наука, — он хмурился, — наука есть способ познанья.
— Познанья, да: но как насчет пониманья? Сейчас я вам объясню, в чем разница между евреями и христианами, вы слушайте. Прежде чем высказано, названо, ничто для вас не существует. Для вас все — слова. Да сам ваш Иисус Христос — слово, ставшее плотью!
Кеплер улыбался. Смеются над ним, что ли?
— Ну а у евреев как?
— Есть шутка старая, будто бы Бог в начале сказал избранному народу все, все, но ничего не объяснил, так что теперь мы все знаем, но ничегошеньки-то мы не понимаем. Да и не такая уж это шутка, если подумать. Есть в нашей религии такое, чего мы не называем, имени чего не произносим, ибо сказать, назвать… значит повредить. Может, и с вашей наукой то же?
— Но… повредить?
— Ну, я не знаю, — пожатье плеч. — Кто я такой? Простой точильщик линз. Теорий этих ваших, этих ваших систем не понимаю, да стар уж — изучать. Но вы, мой друг, — опять он улыбнулся, и Кеплер понял: над ним смеются, — вы созданы для великого, это мне ясно.
Там-то, в Линце, под веселым темным оком Винклемана, он и услышал смутный гул великой пятинотной гаммы, положенной в основу музыки сфер. Во всем, во всем он теперь видел соотношения, без коих мир немыслим, — в законах архитектурных, в живописи, в метре поэтическом, в причудах ритма, да что! — в самих красках, запахах, оттенках вкуса, в соразмерностях тела человеческого. Серебряная, тонкая струна все туже в нем натягивалась и звенела. Вечерами сидел он с приятелем над мастерской, пил, курил трубку, и говорил, и говорил, и говорил. Он уже вполне оправился, мог ехать в Тюбинген, но не трогался с места, все оставаясь в Австрии, где люди эрцгерцога могли всякий миг его схватить. Еврей его наблюдал, спокойно, тихо, и порою сквозь винный, сквозь табачный туман казалось Кеплеру, что этим тихим, сторожким взглядом из него медленно и нежно тянут что-то — бесценный, неосязаемый состав. И лезли в голову Нострадамус и Альберт Великий,