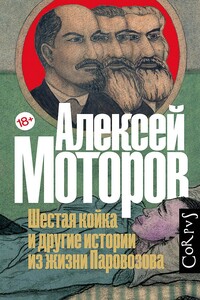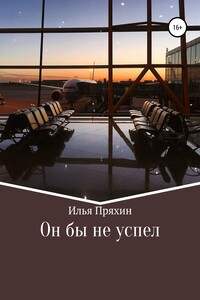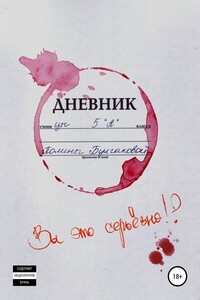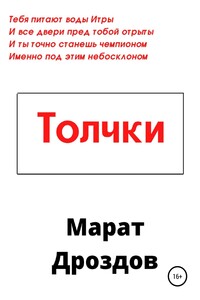Юные годы медбрата Паровозова | страница 68
– Здравствуйте! – как можно более беззаботно произнес я. – Мне нужен больной Ичмелян!
Первая халтура
Поговорим о деньгах. Не о том, что, согласно теории Маркса, деньги – это всеобщий эквивалент любого другого товара, – нет, мы поговорим о деньгах по-простому.
Денег всегда мало. Да можно сказать, их всегда нет. А если работать, как я, в реанимации, их и не будет. А безденежье, особенно хроническое, – состояние в общем-то малоприятное и, можно сказать, унизительное.
Тут, конечно, надо сделать скидку на описываемые мной времена. Тогда не было сегодняшнего разнообразия и разница в доходах граждан не исчислялась миллионами. Время было в этом плане наивное, даже какое-то инфантильное. Средний заработок в стране был около ста пятидесяти – ста семидесяти рублей в месяц. Многие получали еще меньше, пенсии – те вообще доходили до сорока рублей. Таким несчастным едва хватало на еду, транспорт и нехитрую одежду.
Как правило, никто из них не роптал, а люди пожилые говорили неизменное: “Одеты, обуты, чего еще надо, главное, чтобы войны не было”. Войны вроде не было, но одеты и обуты все они были так, словно кто-то обрядил их в выкинутый на помойку по причине ветхости реквизит пьесы Горького “На дне”. Те, кто помоложе, часто придерживались еще более простой философии: “На выпить-покурить хватает, а закуска у меня прямо на огороде растет”. Это если, конечно, огород был. Ну а если нет, так и хлопот меньше.
Многие всю жизнь на что-то откладывали. Такое требовало целеустремленности и самопожертвования. Одна моя знакомая еще в первом классе решила скопить на дубленку. И все десять школьных лет прятала в укромное место те двадцать копеек, которые папа с мамой ежедневно выдавали ей на мороженое. После выпускного вечера она с немалым трудом вытащила заначку и пересчитала ведро двугривенных. Получилось около семисот рублей.
Три с половиной тысячи пломбиров, украденных у своего детства. На дубленку в самый раз.
Я и сам не чурался складывать по рублику, лелея мечту о японских часах, но все-таки копить – занятие тоскливое и безнадежное. Два года на джинсы, три года на телевизор, четыре – на холодильник, пять – на мебельный гарнитур, пятнадцать – на машину. Еще не успел накопить на последнее, а тут звонок с того света: “Пожалуйте в гробик!”
Хотя чаще приходилось откладывать даже не на что-то конкретное, а так, на всякий случай. Накопишь, поедешь по городу, а там вдруг повезет, наткнешься на дефицит! На дефицит натыкались следующим образом: нужно было ездить по большим центральным магазинам и смотреть, не стоит ли где здоровенная, часов на пять, очередь.