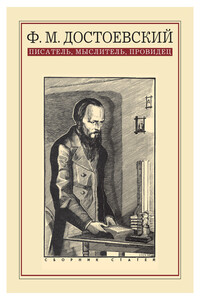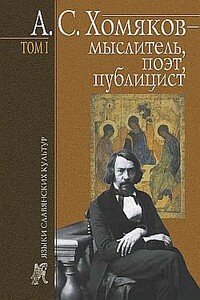Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции) | страница 17
В подобных не очень внятных надеждах, сплавляющих в себе элементы стоицизма, экзистенциализма и гуманистической риторики, содержится изрядная доля утопизма, который заключался и в возвеличенной Бибихиным «философско-поэтической антропологии» Ренессанса. Отсюда «поэтическая» неопределенность и «философская» абстрактность в характеристике этой антропологии («духовно мощные», «крылато разносторонние», «вечно юные натуры» со «спокойным сознанием силы», «ощущением безграничных возможностей» и т. п.) В обсуждаемой книге сочувственного цитируется вывод Я. Буркхардта, согласно которому в эпоху Возрождения «впервые узнали всего человека и человечество в их глубочайшей сути», то есть и в их изначальной определяемости натуралистическим модусом и органическом сродстве с природным миром. Автор считает принципиальным историческим поворотом «возвращение человека ему самому, его природе и миру», под своды абсолютизированной конечности и имманентности своего существования для максимально возможной самореализации. «Находка (да хотя бы даже и одно обещание) деятельной завершенности, открытие возможности осуществиться здесь и теперь представляет собой достижение, которое можно назвать «вечной потенциальностью» только в смысле всегдашней доступности этого достижения, сопровождающей всю человеческую историю и придающей этой истории смысл».
Как же выразилась возрожденческая «вечная потенциальность» самоосуществления «здесь и теперь»? Какое содержание вкладывается в «деятельную завершенность»? В чем заключается историческое смыслообразующее начало в пределах натуралистического монизма? В ответах на подобные вопросы Бибихин не обходится опять-таки без «эстетических» и «поэтических» обобщений о доверии к природе и миру в ренессансной культуре, которая, по его словам, кажется П.А. Флоренскому, «ненавистнику Ренессанса», тлетворным запахом «возрождения-вырождения». Речь в книге заходит о «счастливой полноте человеческого бытия», о «жизни в свете славы», о «вере в себя», о «строительстве своей судьбы» и других подобных «заветах Ренессанса». При этом предполагается «неустанная деятельность прежде всего высших способностей души», гордости и доблести, добротности и энергичности, разума и знания, «предельного усилия» и «могучего духа сопротивления». То есть подразумевается культивирование virtus. «Virtus, переводимая как добродетель, имеет смысл не «делания добра», а мужества, крайнего напряжения сил, полного развертывания способностей без уточнения, каких именно и в каких целях, безотносительно к благу-злу в расхожем морализаторском смысле». Таким образом, высшие способности души отождествляются с «силовыми» добродетелями, в тени которых неизбежно меркнут также декларируемые, но в рамках натуралистически самоопределяющегося духа все менее практикуемые возрожденцами и все более ослабляющиеся божественная мудрость, самозабвенная любовь, неколебимая нравственность, постоянно действующая совесть, то есть действительно высшие способности души, имеющие трансцендентную опору в надчеловеческом идеале истины, добра и красоты и предохраняющие мир от эксцессов обожествивший себя, возжаждавшей полноты жизненных ощущений и «артистически» (все доминанты религиозных и нравственных ценностей) самоутверждающейся личности.