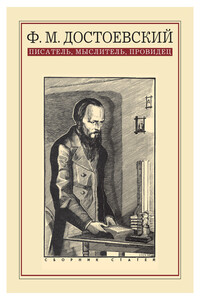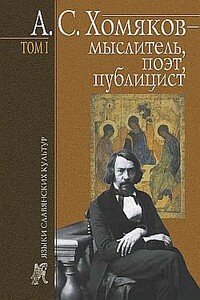Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции) | страница 13
Приведенные выше выводы и оценки стадии цивилизации, не вмещающиеся в одномерное сознание отечественных реформаторов, все чаще повторяются западными мыслителями и аналитиками, авторитет которых важен не только по существу разбираемых проблем, но и в своеобразном историко-психологическом отношении. Говоря о сложном, опосредованном западнической традицией восприятии собственных ценностей, И.В. Киреевский отмечал: «Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, что теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».
Сказанное Киреевским о православии остается верным и применительно к обсуждаемым вопросам. Как говорится, в своем отечестве нет пророков, их предсказания воспринимаются с большим опозданием, часто после авторитетного одобрения Запада. Учитывая такие навыки сознания, будет нелишним привести ряд суждений и оценок западных интеллектуалов, словно наследующих обозначенную выше и рассматриваемую ниже логику русских религиозных мыслителей и писателей. Многие из них, подобно Т. Адорно или А. Тойнби, Г. Маркузе или Х. Ортеге-и-Гассету, размышляют о примитивной стандартизации межличностных отношений в «индустриальном обществе», о губительном снижении и нивелировке вкусов и потребностей «одномерного человека», предпочитающего подлинной духовной жизни обладание материальными вещами, променивающего «быть» на «иметь». Современный человек, отмечает Э. Фромм, отчуждается от самого себя, ближнего и природы, превращая собственные знания и умения, всю личность целиком в товар и капитал, благодаря которому он должен получить максимально возможную прибыль с учетом положения в обществе и рыночной конъюнктуры: «в жизни нет никаких целей, кроме движения, никаких принципов, кроме принципов справедливого обмена, никакого удовлетворения, кроме удовлетворения в потреблении».
Как бы дополняя Фромма, О. Шпенглер указывает на то, что опошлилось само время, стали привычными и даже привлекательными дурные манеры парламентов, нечистоплотные сделки для легкой наживы, примитивные вкусы в культуре: «Само строение общества должно быть выровнено до уровня черни. И да воцарится всеобщее равенство: всему надлежит быть одинаково пошлым. Одинаково делать деньги и транжирить их на одинаковые удовольствия… большего и не надо, большее и не лезет в голову».