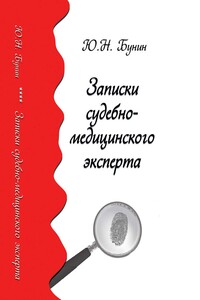Соучастник | страница 62
«Гардеробщица смотрит на нее ошеломленно. „Дама не будет снимать шубу, — говорю я, — она в одном халате“. Тери сыплет в еду сахар, соль, льет уксус, потом кривит губы: это же нельзя есть; я заказываю другое блюдо, самое дорогое; она вдруг разражается плачем: сколько людей в третьем мире сейчас голодают. „Тише“, — говорю я; она начинает кричать: „Ты меня не успокаивай! Ну и что: смотрят? Пускай смотрят, пускай у них зенки повылезают! Они тут обжираются, а там дети мрут с голоду“. „Истеричка паршивая“, — шепчу я; это помогает. Дома я три дня не разговариваю с ней. Она в отместку три дня не моется. Потом, ластясь ко мне, шепотом, словно большой секрет, сообщает: „Ух, какие у меня ноги вонючие!“ Сидит на ковре, нюхает свои ноги и ликует: в самом деле вонючие. Была у меня попытка вырваться из заколдованного круга: другая женщина, теплая, ласковая, как мать, во всем противоположность Тери, но почти такая же красивая, как та. Тери зазвала ее к нам, увела к себе в комнату, примеряла на нее свои платья, гладила, соблазняла. Женщина исхудала, почернела, мне дерзит, целуется с Тери; она отравлена. Тери торжествует. Когда я в городе, она преследует меня своими бесовскими телефонными звонками; я не могу постичь, как она находит меня, а она посмеивается: это, мол, мой маленький секрет, просто ей любопытно, какой гостинец я ей принесу: хоть веточку или камушек. Уходя из дому, я оглядываюсь, поднимаю глаза на наш балкон, иду с вывернутой шеей до самого угла; а когда возвращаюсь, она опять там, или ждет на углу: чувствует, когда я должен вернуться».
«Тайно от нее я выправил себе загранпаспорт; она шарила в ящиках моего стола, конечно, обнаружила его — и зашипела от ненависти. Вечером приходят гости — стервятники, гиены, сладострастные сплетники — приходят чуть ли не благоговейно, словно в театр: ведь то, что у нас разыгрывается, — не беззубая мелодрама. „Налей и мне, стукачок ты мой милый“, — говорит Тери. Бутылка у меня в руке замирает. „Наливай, наливай, — поет она сладкозвучной флейтой, — все ведь знают, что ты своего брата заложил. А вы следите за своими словами, не болтайте перед ним, что попало“. „Хватит“, — говорю я. „Скажи ему, что он стукач. Он трусливый, он тебя не ударит“, — подначивает Тери какого-то юнца. „Не могу“, — сопротивляется тот. „Если скажешь, я с тобой лягу. Даю пять минут, я пока постелю“. И медленно, церемонно разбирает постель в соседней комнате. „Правда же, вы не стукач?“ — весь красный, спрашивает юнец. Я молча смотрю на него. „Боже мой“, — говорит парень и убегает. Гости тоже начинают собираться. „А где же моя любовь?“ — томно спрашивает Тери. „А моя где?“ „Перед тобой, идиот. Когда ты весь будешь исколот, изранен, тогда и меня будешь любить по-настоящему. Пока ты горд, пока помнишь о своем самолюбии, ты меня не любишь. Сколько грязи тут оставили эти стервятники! Смотрят, как я тебя медленно убиваю, и ржут про себя, потому что тебя можно убивать каждый день. А ты каждое утро воскресаешь и садишься за стол, переводить“. Это верно, в день по двадцать страниц, на магнитофон, в сумасшедшем темпе, две машинистки едва за мной успевают. Тери нужны деньги, я должен ее содержать, если она поступит на службу, на третий день ее выгонят. Она становится передо мной на колени: „Счастье мое, нет на земле другого человека, который бы все это терпел. Я не могу измениться; я ведь только и живу, когда тебя унижаю. Если нет никакого скандала, мне кажется, ты меня и не любишь вовсе, я для тебя — пустое место. Призрак из склепа, который сосет твою кровь, и ты не можешь меня прогнать, а я уничтожаю всех, кто бы мог меня заменить в твоем сердце. Выдержи меня еще немного, помоги мне, я тебя мучаю, но не виню ни в чем“. „Давай ложиться“, — говорю я; я уже не слышу ее слов, все кажется мне каким-то нелепым, ненужным, как радио, которое забыли выключить, и в нем продолжается трансляция какого-то спектакля. Среди ночи я просыпаюсь от ее рыданий: перед сном я, видишь ли, не пожелал ей спокойной ночи. Ничего, пускай рыдает».