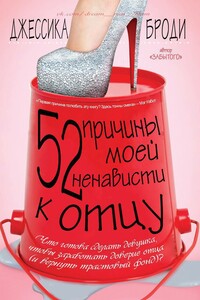Соучастник | страница 52
Он принюхивается, морщась, словно чуя запах горящего жирного тряпья, и бросает сквозь зубы: «Смрад себялюбия — вот твоя подлинная стихия». Печенкой чувствую: никуда мне не деться, вытащит он меня из этой уютной вони. Выражение у него такое, будто ему пора по делам; он высокомерно смотрит куда-то поверх моей головы; да, ему пора, он спешит. «Будь там, где нельзя. Нет таких границ, которые не стоило бы нарушить!» Улицу он всегда переходит на красный свет, я же ступаю на мостовую в тот момент, когда красный готов смениться зеленым. Чего он городит, чего врет опять? Нам ли, двум старым развалинам, пререкаться друг с другом? Ни один из нас никогда по-настоящему не блистал ни в несогласии, ни в приспособленчестве.
«Открыть тебе дверь? Или в окно войдешь?» Дверь? Это ему-то? Гибкому, быстрому, как уж, привидению со стажем, профессиональному лунатику? Однажды ночью, когда ему было всего девять лет, я проснулся от того, что он, в красной своей пижаме и тапочках, прошествовал за моим окном по узенькому карнизу, который тянулся на высоте второго этажа вокруг всего нашего дома. Вдруг он поскользнулся и повис на жестяном карнизе на руках. Мне перехватило горло, я только и смог выдавить: «Дани, сюда». Одним движением, взмахнув ногами, он взлетел до окна, упал в мою комнату — и утром ужасно удивлялся: как это он очутился здесь? Я показал ему следы крови на стене — от его пальцев. Наш семейный врач, чья лысая, пахнущая рыбьим жиром голова на моей груди для меня и сегодня — живое, до дрожи, воспоминание, поставил брата между колен: «Ты, сынок, последний лунатик, которого я вижу в своей жизни». Потом посоветовал матери по вечерам закрывать в комнате Дани ставни. «Вырастет ваш сын, тогда и перестанет гулять по стене». Врачебный совет оказался более мудрым, чем предсказание.
Спустя некоторое время случилось следующее: Дани сидел на чердаке и бросал в окруженное решеткой бетонное хранилище боеприпасов горящие спички. Мы все вполне могли бы взлететь на воздух, не загляни случайно на чердак один наш подмастерье, — через секунду он, прыгая через балки, уже гонялся за братом. Дани выскочил на крышу, оттуда перемахнул на ореховое дерево, там, качаясь на ветках, показывал всем задницу, деда нашего обозвал вонючим козлом, плевался в прыгающих под деревом учеников. Дедушка стоял мрачный, прислонившись к столбу качелей; когда Дани, орущего, дрыгающего ногами, наконец поволокли прочь, он лишь тихо спросил: «Ты знал, что от твоих игр дом может взорваться?» Брат кивнул. «Ступай к себе в комнату и кайся!» — сказал наш худощавый дед, чьему многотонному авторитету нельзя было не подчиниться. Дани в своей комнате скрипел зубами и, прижавшись лбом к полу, ревел без умолку четыре часа подряд. «Не хочу быть хорошим!» — орал он с лиловым лицом, когда к нему вошла мать.