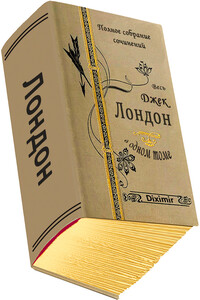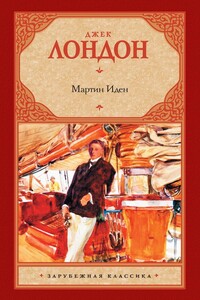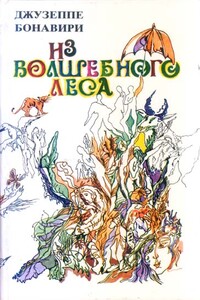Сын волка. Дети мороза. Игра | страница 55
Только один человек на всем Севере знал Павла Рубо — не отца Рубо, и это был Мельмут Кид. Только перед ним снимал священник свою официальную одежду и обнажал свою душу. И почему бы нет? Эти два человека достаточно знали друг друга. Разве не делили они между собой последний кусок рыбы, последнюю щепотку табака, последнюю и самую интимную мысль на пустынных пространствах Берингова моря, в мучительном лабиринте Большой Дельты, на ужасном зимнем пути от мыса Барроу до Паркюпайны?
Отец Рубо молчаливо дымил своей изношенной в путешествиях трубкой и смотрел на красный круг солнца, темневший дымным пятном на самом краю северного горизонта. Мельмут Кид вынул часы. Была полночь.
— Ладно, старый друг! — Кид, очевидно, продолжал прерванный разговор. — Бог, разумеется, простит эту ложь. Вот вам слова человека, который хорошо сказал о лжи:
«Если губы ее сказали хоть слово, помни, что на твоих — печать молчания,
И пятно позора на том, кем выдана тайна.
Если Герварду тяжко, и самая черная ложь прояснит его горе, —
Лги, пока движутся твои губы и пока хоть один человек остался в живых, чтобы слушать твою ложь».
Отец Рубо вынул трубку изо рта и подумал вслух:
— Твой автор говорит правду, но не это мучит мою душу. Ложь или раскаяние — это зависит от Бога. Но все-таки, все-таки…
— Что все-таки? Ваши руки чисты…
— Не совсем! Кид, я много думал об этом, и факт остается фактом. Я знал — и все-таки заставил ее вернуться.
Звонкая песнь реполова донеслась с лесистого берега; вдали откликнулась куропатка; олень шумно фыркал, купаясь.
А два человека курили трубки и молчали.
Мудрость снежной тропы
Ситка Чарлей совершил невозможное. Быть может, другие индейцы не хуже его постигли мудрость снежной тропы, но он один постиг мудрость белого человека — честь тропы и ее закон. Однако это далось ему не в один день. Мозги туземцев туги на обобщения, и необходимо, чтобы факты повторялись часто, пока озарит настоящее понимание. Ситка Чарлей с детства постоянно вращался среди белых и мужественно решил связать свою судьбу с ними, раз навсегда отрезав себя от своего народа. Но уважая и даже обоготворяя могущество белых, он еще не разгадал самой его сущности — чести и закона. И только в результате опыта, накопленного годами, уразумел эту сущность. Чужак — он знал ее даже лучше, чем сами белые. Индеец — он совершил невозможное.
Из этого родилось у него презрение к собственному своему народу — презрение, обычно им скрываемое, но теперь вырвавшееся наружу в виде вихря многоязычных ругательств, сыпавшихся на головы Ка-Чукти и Гоухи. Они ползали перед ним, как пара ворчащих овчарок, слишком трусливых, чтобы напасть, но недостаточно утерявших свою волчью природу, чтобы спрятать клыки. Они были некрасивы, как, впрочем, и сам Ситка Чарлей. Лица их были очень худы, а скулы усеяны безобразными струпьями; струпья эти то трескались, то снова замерзали на сильном морозе; глаза их сверкали мрачным блеском, порожденным голодом и отчаянием. Люди, находящиеся по ту сторону границы чести и закона, не заслуживают доверия. Ситка Чарлей знал это; поэтому-то он еще десять дней тому назад заставил их бросить ружья вместе с остальным лагерным скарбом. Ружья остались только у него и у капитана Эпингуэлла.