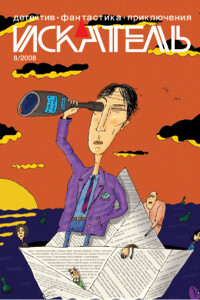Книга из человеческой кожи | страница 126
В ноябре 1807 года его милость Бони убрался из нашего города, правда, всего на пару недель. Мы устроили для него жалкое представление, провели одну или две regata[84] да соорудили театральную арку над Каналаццо.[85] Но коротышку не интересовали развлечения. Наполеон смотрел на Венецию и видел не ее романтический флер, а тарелку с едой, из которой ему надо было выбросить гарнир, чтобы добраться до мяса.
Все, что хотя бы отдаленно напоминало тайну, подвергалось Наполеоном анафеме. На мой взгляд, низкорослые мужчины всегда ощущают себя лишними, и им приходится вытягивать шею, чтобы услышать, о чем болтают большие ребята. Для Бони наши патрицианские sowie,[86] собирающие деньги на искусство и благотворительность, представляли реальную угрозу. Их действия явственно отдавали тайными сборищами. И вот вполне благополучные и не вынашивающие черных замыслов scuole были разогнаны, а их картины и архивы увезли неизвестно куда. Все свое время Наполеон проводил с инженерами и строителями. Он не устраивал званые обеды или пышные приемы для самых благородных сыновей города, таких, как я, например. Полагаю, он опасался, что наши воспитание и элегантность выставят напоказ его собственную врожденную неполноценность.
Бог стал для Наполеона еще одним соперником, с присутствием которого он не собирался мириться. В Венеции Наполеон обнаружил свыше ста церквей, а оставил меньше половины. (Читатель не верит и недоуменно приподнимает брови? Но сейчас мы говорим о человеке, который вскоре арестует самого Папу.) Бони не задумываясь расформировывал наши церкви, а некоторые попросту разрушил. Но именно его последние действия в Венеции доставили мне больше всего хлопот и беспокойства. Бони начал один за другим закрывать городские монастыри. Бог знает какое недовольство зрело за их высокими стенами, по его мнению. Но, разумеется, главной причиной их падения стало неутолимое стремление Наполеона к их быстро реализуемым активам. Монастыри постепенно лишились всего, что представляло собой хоть какую-либо ценность: стоимость награбленного, как выяснилось впоследствии, составила четыреста миллионов франков.
Когда я говорю о «ценностях», то не отношу к ним женщин, прозябавших за монастырскими стенами. Они не стоили ровным счетом ничего. Их семейства заплатили приданое. Бог и Наполеон теперь стучался в их цветные витражные окна.
— Отдай их мне, Господь! — верещал маленький Наполеон. А Бог знал, как избежать неприятностей.