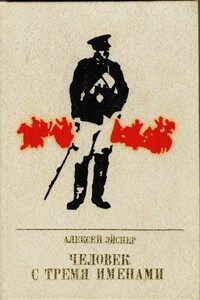Роман с Европой | страница 28
Разливаясь в сакраментальнейшем хохоте, бог ли музыки, русский ли сиделец рассказывал грозную сказку… «При нем жила блоха»… Рояль задыхался… «Вот я золото и ба-ар-хат»[13] В зале стыдливо тускнели браслеты и портсигары. Запрыгали со смешными ужимками королева и фрейлины. — Душить!.. — прогрохотал потолок. Судорожно цепляясь за ручки кресел, зачарованно слушали дрожащие блохи, затянутые в смокинги и вечерние туалеты. Эльза с ужасом взглянула на меня. Я плакал.
* * *
В купе никого, кроме нас, не было. Эльза, закрыв глаза, положила голову мне на плечо. Но мои глаза были открыты. Они открылись топа, когда гигантская рука подняла меня за облака и я оттуда увидел медленное коловращение серой земли, печальные содрогания моей бедной жизни. Там, за узорными сталактитами морозных эфирных пространств полыхало ледяное вечное солнце искусства. Но вод железо-бетонные крыши ресторанов, баров и дансингов, сквозь животную броню моего семейного счастья не проникали его лучи… Страшная история художника Черткова вспомнилась мне.
И хотя жалость мускулистыми пальцами сжимала мне гордо, я — с трудом находя слова — стал объяснять этой бедной девочке, на какой тяжкий подвиг обрекает она себя. Я говорил ей о недосягаемых горных вершинах, на которые она должна карабкаться вместе со мною, о змеином голосе сомнения и о разрывающем уши грохоте славы… Сбивчиво, но горячо я нарисовал ей в первый раз наше мучительное и прекрасное будущее втроем с искусством. Я пугал ее черствы» хлебом действительности и утешал воображаемым вином вдохновения. Я предлагал ей вместе уйти из мира в невидимую обитель творческой радости. И, наконец, я сказал ей, что отныне я навсегда бросаю все внешние, все практические пути; в просил ее приготовиться к суровой я темной доле жены художника. Нахмурив брови, она слушала меня, не отвечая ни слова.