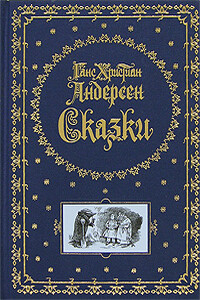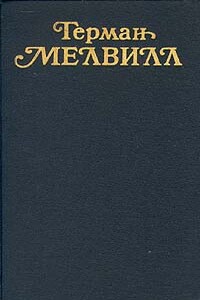Импровизатор | страница 39
— Да, да! Вы еще слишком юны, а я слишком невежествен, чтобы нам с вами судить таких людей. Пусть каждый будет хорош по-своему! К тому же вы не читали Данте! Не могли читать! Юная, горячая душа не может изливать желчь на мирового гения!
Я честно сознался, что мое суждение основано единственно на отзывах моего учителя; тогда продавец, в припадке увлечения своим любимым поэтом, сунул мне в руки книгу и попросил в вознаграждение за недоплаченный ему паоло одного — прочесть и не осуждать гордость Италии, его дорогого, божественного Данте.
Как же я был счастлив! Книга была теперь моей собственностью, моей вечной собственностью! Я всегда не доверял осуждению ее желчным Аббасом Дада, а теперь любопытство мое еще более было подзадорено восторженными похвалами букиниста, и я едва-едва дождался минуты, когда наконец, мог втихомолку приняться за чтение.
С этой минуты для меня началась новая жизнь! Мое воображение открыло в Данте новую Америку с величественной, роскошной природой, превосходящей все, что я знал доселе. Какие могучие скалы, какие яркие краски представились мне! Я сам переживал все, страдал и наслаждался вместе с бессмертным певцом, странствовал вместе с ним по аду, и в ушах у меня беспрерывно раздавалась, словно глас трубный, надпись над вратами ада:
Я видел этот воздух, вечно черный, как песок пустыни, крутимый вихрем, видел, как опадало семя Адама, словно листья осенью, слышал, как стонали в воздушном пространстве скорбящие духи. Я оплакивал великих подвижников мысли, обретавшихся здесь за то только, что они не были христианами. Гомер, Сократ, Брут, Вергилий и другие лучшие, благороднейшие представители древности были навсегда удалены от рая. Меня не удовлетворяло то, что Данте устроил их здесь так уютно и хорошо, как только может быть в аду, — все же существование их было безнадежной тоской, скорбью без мучений, все же они принадлежали к тому же царству проклятых, которые заключены в глубоких адских болотах, где вздохи их всплывают пузырями, полными яда и заразительных испарений. Почему Христос, спустившись в ад и затем снова воспаривши в обитель Отца Небесного, не мог взять из этой долины скорби всех? Разве любовь могла выбирать между равно несчастными? Я совсем забывал, что все это было только плодом поэтического творчества. Вздохи, раздававшиеся из смоляного котла, доходили до моего сердца; я видел сонм симонистов, выплывавших на поверхность, где их кололи острыми вилами демоны. Исполненные жизни описания Данте глубоко врезывались в мою душу, мешались днем с моими думами, ночью — с моими грезами. По ночам часто слышали, как я кричал во сне: «Pape Satan, alepp Satan pape!» — и думали, что меня мучает лукавый, а это я бредил прочитанным. Во время классов я был рассеян; тысячи мыслей занимали мой ум, и при всем своем добром желании я не мог отделаться от них. «Где ты витаешь, Антонио?» — спрашивали меня, и меня охватывали страх и стыд: я знал — где, но расстаться с Данте, прежде чем пройду с ним весь путь, не мог.