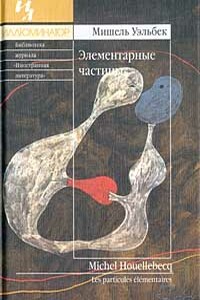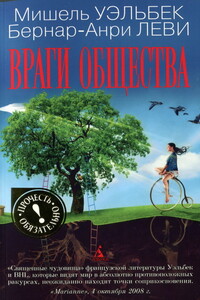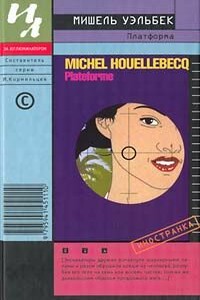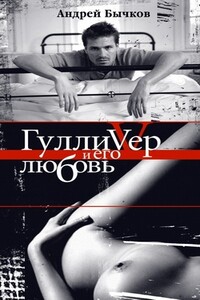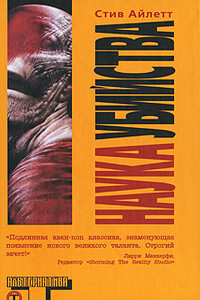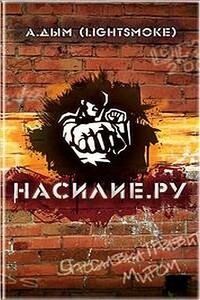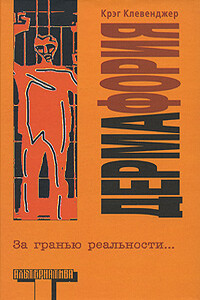Карта и территория | страница 75
Через десять минут появилась Мэрилин, и к ним вернулось хорошее настроение.
– Декабрь – это отлично, я – за, – сразу заявила она и продолжала с плотоядным задором: – Мне хватит времени на обработку английских журналов, их надо брать за горло загодя, эти английские журналы.
– Ну, значит, в декабре, – уступил Франц, мрачный и побитый.
– Но ведь… – начал было Джед, вскинув руки, и остановился. Он собирался сказать «Но ведь художник тут я» или что-то в этом роде, пафосное и дурацкое, но вовремя спохватился и добавил просто: – Мне, кроме всего прочего, надо еще написать портрет Уэльбека. Я хочу, чтобы у меня вышла хорошая картина. Чтобы это была моя лучшая картина.
6
«Мишель Уэльбек, писатель», подчеркивали арт-критики, символизирует в творчестве Джеда Мартена отказ от реалистического пространства в качестве фона картины, характерного для всех его произведений из цикла профессий. Этот поворот дается художнику нелегко, чувствуется, что ценой огромных усилий, прибегая к различным уловкам, он пытается поддержать, насколько это возможно, иллюзию реалистического фона. На его полотне Уэльбек стоит лицом к своему рабочему столу, покрытому исписанными целиком или наполовину листами бумаги. За его спиной, на расстоянии метров, наверное, пяти, видна белая стена, плотно, без малейшего зазора обклеенная заполненными от руки страницами. По иронии судьбы, замечают искусствоведы, Джед Мартен в своей работе явно придает огромное значение тексту, делая упор на текст как таковой, без каких бы то ни было привязок к реальности. А ведь любой литературовед подтвердит вам, что Уэльбек на определенном этапе работы над романом любит прикнопливать на стены своей комнаты разные документы, чаще всего фотографии мест, где разворачивается действие будущей книги, но написанные или недописанные эпизоды – крайне редко. Изображая своего героя в мире бумаг, Джед Мартен, возможно, вовсе не собирался ни занимать какую-либо позицию по вопросу о реализме в литературе, ни приписывать Уэльбеку взгляды представителей формалистского течения, от которых тот, впрочем, недвусмысленно открестился. Он просто испытывал эстетическое наслаждение при виде древовидных фрагментов текста, связанных между собой и порождающих друг друга, словно гигантский полип.
В первые минуты, во всяком случае, мало кто обратил внимание на фон, который полностью затмила невероятная выразительность самого персонажа. Писатель запечатлен в момент, когда он, заметив ошибку на одном из листков, разложенных на столе, будто впадает в транс, не в силах совладать с охватившей его яростью, которую многие, не колеблясь, трактовали как демоническую; его рука с занесенным корректирующим маркером, выполненная легким, точным мазком, передающим движение, обрушивается на бумагу «с молниеносностью кобры, вытягивающейся в струну, чтобы поразить свою жертву», как образно подметил Вонг Фусинь, пародируя, видимо, пышные метафорические штампы, традиционно связанные в нашем сознании с дальневосточными авторами. (Вонг Фусинь прежде позиционировал себя как поэт; но его стихов давно никто не читает, их даже трудно достать, а вот его очерки о творчестве Мартена стали настольной книгой каждого искусствоведа.) Свет, гораздо более контрастный, чем на предыдущих полотнах художника, фокусирует внимание на верхней части лица писателя и его руках с тощими, длинными, крючковатыми пальцами, напоминающими когти хищной птицы, тогда как большая часть фигуры остается в тени. Выражение его глаз казалось столь странным, что арт-критики, не решившись вписать его в какую-либо из существующих в живописи традиций, нашли в нем скорее нечто общее с некоторыми снимками из этнографических архивов, сделанных во время ритуальных обрядов вуду.