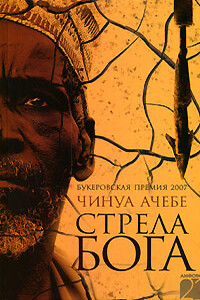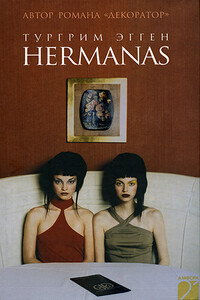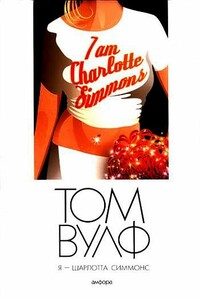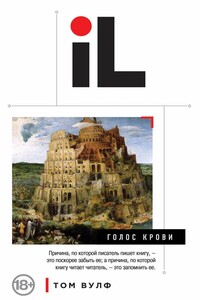Новая журналистика и Антология новой журналистики | страница 21
Особенно яростные атаки предприняли два сравнительно новых, но очень консервативных издания. Одно почитало себя за столп традиционной газетной журналистики в Соединенных Штатах — «Колумбийское журналистское обозрение». Второе было главным органом старых американских эссеистов и вообще «людей пишущих» — «Нью-Йоркское книжное обозрение». Они опубликовали «список ошибок» в моем материале о «Нью-Йоркере» (как я узнал впоследствии, подготовленный его штатными сотрудниками) — очаровательный список, загадочный и мистический, как счет из автомастерской. Корреспонденты обоих изданий писали о проклятом новом жанре, новой «ублюдочной форме», этой «паражурналистике» (то есть инвалидно-параличной журналистике). Этот ярлык навесили не только на меня, но и на мой журнал «Нью-Йорк» и все его материалы, а также на Бреслина, Талеса, Дика Чапа, а когда критиканы совсем вошли в раж, то и на «Эсквайр» [14]. Обратил ли кто-то внимание на этот список — не важно, общая стратегия прояснилась. Моя статья о «Нью-Йоркере» даже не была образчиком нового жанра; не использовались ни репортерские, ни литературные приемы; а за всем краснобайством этой самой настоящей «Полицейской газеты» [15] стояли обыкновенное злопыхательство, раздражение, наскоки консерваторов и устаревшая эссеистика. С написанным мною раньше уже ничего было не поделать. Как и с работами других «паражурналистов». Однако, думаю, ярость тех журналистов и литераторов была искренней. Они всматривались в творчество дюжины или около того авторов — Бреслина, Талеса и меня в том числе, которые писали для «Нью-Йорка» и «Эсквайра», — и, сбитые с толку, совсем теряли рассудок… «Так нельзя писать! — верещали они. — Этим сочинениям не хватает благозвучия и вдохновения, а диалоги приукрашены… А может, эти ребята выдумывают целые сцены, эти чокнутые ведь не имеют никаких моральных убеждений („Говорю тебе, дружище, все пережевано и выплюнуто“)… Им следует понять, что эти новации не имеют права на жизнь… это ублюдочные новации».
Причина такого негодования ни для кого не была тайной. Наши оппоненты сопротивлялись всему новому упрямее, чем железнодорожники. Самым значимым нововведением для среднего редактора в ту пору была головоломка — касса слов [16]. Однако литературная оппозиция не была такой однородной. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать: неожиданное, ниоткуда, появление этого нового стиля журналистики подняло настоящую панику и в литературном сообществе. Весь XX век литературный мир отличали стабильность, а также раз и навсегда установившаяся иерархия. Что-то вроде классового общества XVIII века, когда человек мог соперничать только с представителем того же социального слоя, что и он сам. Высшим литературным классом считались романисты, в чью среду мог затесаться один-другой драматург или поэт. Но романисты составляли большинство. Только их считали истинными творцами, настоящими художниками. Им принадлежало эксклюзивное право исследовать душу человека, его самые сильные чувства, сокровенные тайны, и так далее, и тому подобное… Средний класс составляли «литераторы», эссеисты, самые авторитетные критики, иногда биографы, историки или сочинители космогонических научных трактатов, но прежде всего — литераторы. Им позволялись аналитичность, проникновение в суть проблем и легкое интеллектуальное трюкачество. Они не входили в тот же класс, что романисты, и знали свое место, но царили в нехудожественной прозе… Последний класс составляли журналисты, но отведенное им место в означенной иерархии было столь низким, что их едва замечали. Их считали поденщиками, которые копаются в кучах хлама и добывают материал для авторов более высокой «чувствительности», чтобы те могли должным образом его использовать. А что касается авторов популярных (глянцевых) журналов и воскресных приложений, так называемых фрилансеров, свободных художников, исключая некоторых сотрудников «Нью-Йоркера», — то их вообще в расчет не принимали. Люмпены, и ничего больше.