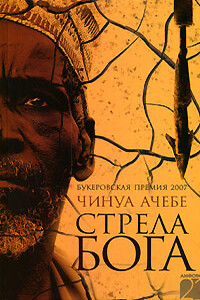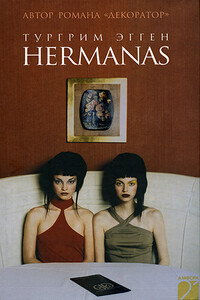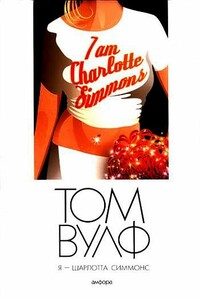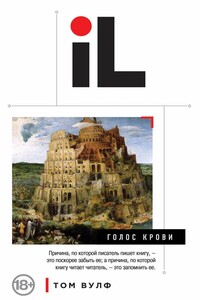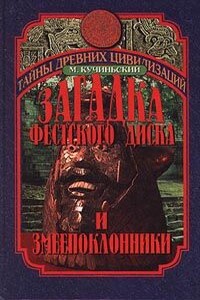Новая журналистика и Антология новой журналистики | страница 12
Деятельность Бреслина в первые год-два его работы слегка раздражала как журналистов, так и склонных считать себя литераторами личностей. Слегка — потому что они никогда вполне не понимали, что он делает… Полагали, что Бреслин всего-навсего неким подлым способом олитературивает разное дерьмо. Интеллектуалы называли его «копом, который взялся за перо» или «Руньоном на пенсии» [5]. Однако для таких нападок не было никаких оснований, все эти критиканы напоминали таксиста, который ведет машину в надвинутой на один глаз шляпе. Большая часть рассказов Бреслина оставалась для них непонятной: то есть его репортерская работа. Бреслин взял за правило прибывать на место действия задолго до начала основных событий, чтобы ко всему спокойно присмотреться, увидеть, как накладывают грим актеры предстоящего спектакля. И ему удавалось правильно выписать характеры. Это было его modus operandi, образом действия. Так он собирал «новеллистические детали», узнавал все об окружающей обстановке, кто чем дышит и кто что носит, и делал это искуснее многих писателей, создающих рассказы.
Литераторы забывали об этой стороне новой журналистики. Современная критика считала само собой разумеющимся, что журналисту незачем беспокоиться о сырье для его статей. Что все необходимое ему и так приносят на блюдечке. Дается ему некий материал, болванка для будущей публикации, и что художник слова с ним делает? Большая часть по сути репортерской работы писателя-рассказчика, как и при создании фильмов, романов, нон-фикшн, никем по-настоящему не замечается и не осознается. На искусство принято смотреть как на религию или нечто магическое, а художник видится простому человеку неким священным чудищем, у которого в голове что-то вспыхивает, ярко или не очень, и такие озарения называются вдохновением. А материал для него — просто глина, палитра с красками… Даже об очевидной репортерской подоплеке многих известных романов — стоит только вспомнить Бальзака, Диккенса, Гоголя, Толстого, Достоевского и, конечно, Джойса — историки литературы вспоминают только как о фактах биографии писателей. А вот новая журналистика такую необычную репортерскую работу взяла на вооружение и сделала своим правилом.
Но обо всем этом заговорили позже. Не помню ни одного человека, который бы в то время задумался над этими вопросами. Мне, во всяком случае, ничего подобного в голову не приходило. Весной 1963 года я тоже делал первые шаги как такой репортер, сам того не осознавая. Я уже описал (в предисловии к «Электропрохладительному кислотному тесту»), при каких своеобразных обстоятельствах готовил свою первую журнальную статью «Конфетнораскрашенная, Апельсиннолепестковая Обтекаемая Малютка» — «Перед нами (рев двигателя — р-р-р-р-р) эта Конфетнораскрашенная (О-ф-ф-ф-ф-ф-ф!), Апельсиннолепестковая Обтекаемая Малютка (У-у-х-х-х-х) Рвет С Места (Б-р-р-р-р-р-ум-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м)…». Это стало своего рода меморандумом для выпускающего редактора «Эсквайра». Статья, вне всякого сомнения, читалась как рассказ, несмотря на списанные из жизни сцены и диалоги. Меня такие вопросы не волновали. Трудно было сказать, на что это походило. Какая-то срочная распродажа — случайный отрывок… виньетки, ученичество, яркие воспоминания, краткие социологические экскурсы, риторические фигуры, эпитеты, стенания и словесные выбросы, неожиданные озарения — и все это смешалось самым причудливым и неожиданным образом. В этом-то и таилась сила статьи. Мне открылись новые возможности журналистики. Мне не просто открылись возможности работать в нон-фикшн с помощью приемов письма, традиционно используемых романистами и новеллистами. Это тоже, но и кое-что еще. Открытие состояло в том, чтобы в журналистике и нехудожественной прозе использовать весь беллетристический арсенал — от обычных диалогов до потока сознания — и применять эти разные приемы одновременно или один за другим… чтобы зажечь читателя и заставить его задуматься. Конечно, все эти гладиолусы не расцвели в первой же моей статье. Я говорю только о возможностях, которые мне открылись.