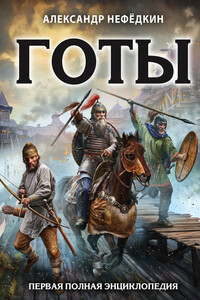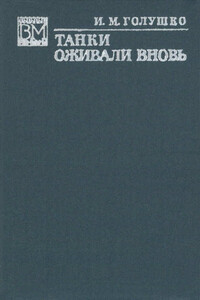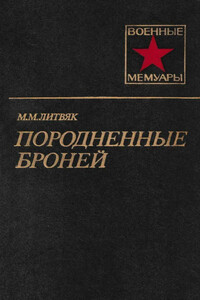Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.) | страница 76
Эскимос с о. Св. Лаврентия в ламинарном панцире с кожаным прямоугольным нагрудником, с двумя крыльями (нач. XIX в.).
Манекен из МАЭ (№ 593-74). Воспроизведено по: Антропова 1957: 204, рис. 21
Гравировальные рисунки на кости и клыках, созданные в основном в 1930—1940-х гг., добавляют некоторые черты к пониманию комплекса вооружения. Доспехи тут представлены достаточно схематично в виде одежды длинной в клеточку или короткой, до колен, в полоску, наспинный щит показан без крыльев. Эти воины вооружены или луком, или копьем. Причем у копьеносца за правым плечом почти горизонтально висит колчан с луком и стрелами. Подобные воины действуют в одиночку, а не в массе, поскольку они представляют собой героев сказаний (см.: Антропова 1953: 41―43. Табл. IX, 1―2а, б; 1957: Рис. 34―35; Широков 1968: Рис. 7).
Существовало и определенное различие в вооружении и, возможно, в способах боя между чукчами, проживавшими в различных географических регионах. Так, записка от 1770 г., описывающая народы Якутского «ведомства», рассказывает о вооружении чукчей (Бриль 1792: 372): «Ружья [= оружие] у них костяные из китовых усов и костей, також и деревянные луки со стрелами, палмы, и во время неприятелей носят при себе на темляках копья, а на себе куяки железные, костяные, також; и панцыри» (ср.: Окладников 1948: 36). Вероятно, речь идет о западных чукчах, которые подверглись влиянию соседей. Типично чукотским является материал для изготовления оружия (кость и китовый ус), а также костяные и железные ламеллярные доспехи, однако нож-пальма, насаженный на длинное древко, — это якутско-эвенкийский элемент вооружения. К чисто русской части паноплии относится «панцырь» — кольчатая броня, которая могла различными способами поступать к чукчам. Эти же чукчи «скотоводствуют оленьими и на оных ездят зимою на санках, а в летныя времена верхом на седелках об одной подпруге без стремян» (Окладников 1948: 34). Верховая езда на оленях для чукчей необычна, и совершенно ясно, что такой способ передвижения был заимствован западными чукчами от эвенов. Насколько часто он применялся, неясно. Ведь оленные чукчи и коряки считали «грехом» езду верхом на оленях (Беретти 1929: 72; ср.: Кибер 1824: 97; 1827: 197; Гурвич 1983: 101). Таким образом, можно говорить, что описываемые в записке чукчи подверглись сильному влиянию соседей. Аналогичное влияние мы наблюдаем в последней четверти XIX в. на перешедших Колыму чукчей, когда они заимствовали верховую езду на оленях от ламутов (Иохельсон 1900а: 190).