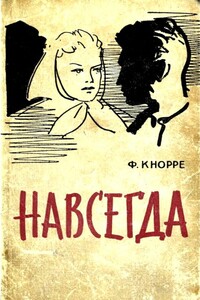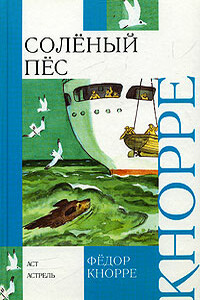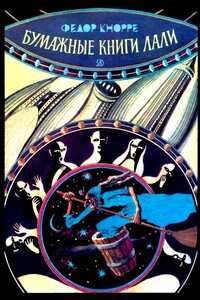Одна жизнь | страница 46
- Неправда! Вы так больше не говорите, а то я реветь буду!! Зачем вы так, нарочно? - Леля вцепилась ему в рукав и изо всех сил трясла и дергала, чтобы заставить замолчать.
- От неправды не плачут. Зачем же ты плачешь, дитя?
- Не плачу, а потому что вы нарочно жалобите... Зачем вам теперь-то пить? Вы теперь не мещанин, и никакой подлости больше не будет, вы же знаете!
- Ах, девочка со светлыми слезинками! Вы думаете: вот отсталый старорежимный актер расхныкался по пьяной лавочке.
Он ударил себя в грудь кулаком и вдруг с подъемом продекламировал:
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Перевел дух и хрипло и мрачно сказал:
- Вот что я читал под музыку... И верил всем сердцем... и студенты меня вынесли на руках... Недалеко, но вынесли. Я свято верил. И вот я читаю "Сакья-Муни", и меня еле слушают, а Гусынин пожинает свои гнусные лавры. И этим людям мы должны будем теперь играть! Нет, это не те, кто погибали за великое дело, не святые интеллигенты, не рабочие с Пресненских баррикад. Это - Расея, темная, окопная, крестьянская - на кой ей черт Шекспиры и Чайковские... А впрочем, идите спать, милая, не детское дело слушать такие вещи... Все обойдется. Мы отработаем паек и уедем в другое место, где тоже будем никому не нужны...
- Вы тот раз так хорошо читали, на концерте, - сказала Леля. - А Гусынин - это просто пакость!
- Тем более, тем хуже, тем страшней... - продекламировал Кастровский уже с некоторым оттенком самодовольства.
"Бедный! - подумала Леля. - И он, как губка, готов впитать каждую похвалу, даже ничтожной девчонки, какой он считает меня..."
Она сделала над собой небольшое усилие и приврала:
- Вы замечательно декламировали, я даже слышала, как многие говорили, что просто... замечательно!
- Да? - с приятным удивлением небрежно переспросил Кастровский. Возможно... Не знаю... Что ж, поднимем тост за тех, кто это говорил.
Леля подождала, пока они чокнулись, церемонно поклонившись в ее сторону, и ушла к себе.
Там она вылезла из окна и села на подоконник, спустив ноги на покатую крышу. Облитые луной верхушки тополей были у нее перед самыми глазами. Ночной город, казалось, лежал у подножия гигантской стены неподвижных облаков, похожих на гряду снеговых гор.
Хорошо, что для нее все теперь кончилось. Не беда, что немножко хочется плакать и сердце похныкивает. Похнычет и перестанет. Лучше вовремя взяться за ум. Все равно она ничего не понимает в новом искусстве, и ее почему-то угнетает мысль, что старый театр умер, стал ненужен, и теперь надо будет только хором декламировать театрализованные лозунги дня, в раскрашенных квадратами и треугольниками костюмах, среди голых досок сцены без декораций.