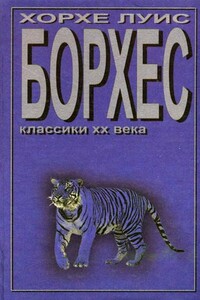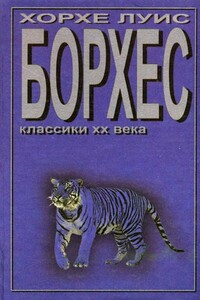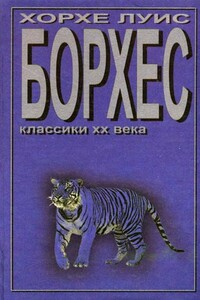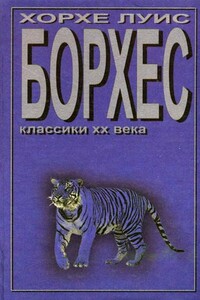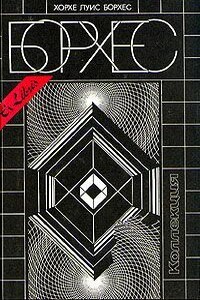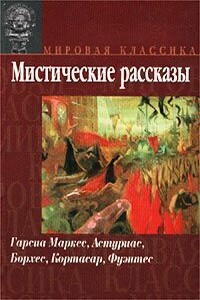Другая смерть | страница 2
— Дамьян? Педро Дамьян? — повторил полковник, — Был такой у меня. Индейчик, которого парни звали Дайман. — Он было разразился хохотом, но тут же оборвал себя с наигранным или искренним смущением.
Изменив тон, сказал, что война, как женщина, служит для того, чтобы мужчина мог себя проверить, и что До сражения никто не знает, кем он окажется. Кого-то считают трусливым, а он настоящий храбрец, или наоборот, как это случилось с беднягой Дамьяном, который куражился в сельских тавернах — пульпериях, швырял направо и налево свои «белые»[2] деньги, а потом сдрейфил под Масольером. В перестрелках с врагами он, бывало, вел себя по-мужски, но ведь иное дело, когда две армии стоят друг перед другом, и начинается артиллерийская пальба, и каждый вдруг чувствует, что пять тысяч недругов здесь затем и собрались, чтобы его прикончить. Бедный мальчишка — мыл и стриг овец и вдруг попал в эту бойню…
Глупо, но рассказ Табареса привел меня в замешательство. Я предпочел бы, чтобы события развивались не так. Повстречавшись со стариком Дамьяном тем вечером, несколько лет назад, я невольно вылепил своего рода идола; Табарес разбил его вдребезги. Внезапно мне открылась причина сдержанность и стойкого одиночества Дамьяна: это была не стеснительность, это был стыд. Напрасно я убеждал себя, что человек, проявивший однажды слабость, более сложен и интересен, чем человек исключительно храбрый. Гаучо Мартин Фьерро, думалось мне, заслуживает меньше внимания, чем Лорд Джим или Разумов. И все же Дамьян, аргентинский гаучо, обязан был стать Мартином Фьерро — тем более в глазах уругвайских гаучо. Во всем, о чем бы Табарес ни говорил или ни умалчивал, чувствовалась его явная склонность к тому, что называется артигизмом[3], то есть к уверенности (возможно, и правильной), что Уругвай более прост, чем наша страна, а потому и более храбр… Помнится, в тот вечер мы распрощались, обменявшись сверх меры крепкими рукопожатиями.
Поиски еще двух или трех фактов для моего фантастического рассказа (который как назло не складывался), вновь привели меня зимой в дом полковника Табареса. У него в гостях был один пожилой сеньор, доктор Хуан Франсиско Амаро из Пайсанду, который тоже участвовал в восстании Саравии. Как и следовало ожидать, заговорили о Масольере. Амаро сначала рассказывал забавные случаи, а потом не спеша добавил, словно раздумывая вслух:
— Помню, заночевали мы в Санта-Ирене, и к нам примкнули несколько человек. Были среди них ветеринар-француз и парень, стригальщик овец из Энтре-Риоса, некий Педро Дамьян.