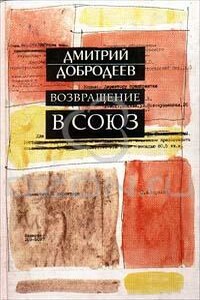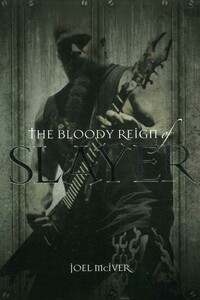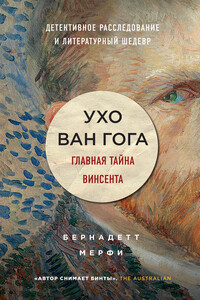Каирский синдром | страница 2
Тем более не ожидаешь протуберанца лирики и романтизма. Столь интенсивного, что, будь он писатель традиционных ап-эн-даунов, я бы смело сказал — перед вами лучшее, самое проникновенное произведение Дмитрия Добродеева. Вот только совокупность созданного, body of work (а он за это назван нашим, «Серебряной пулей» наделенным, «Франтирёром-2012»), — бежит синусоиды с ее перепадами между хорошим и лучшим. Словно бы сам «путь» подчинился исходному тайному знанию, и написанные книги, от первой до той, которую вы открыли, пребывают за пределами любых осей координат, а все писательское становление-развитие подобно той антисоветской радиоантенне, которую наматывали на карандаш, — образ подсказанный русским метафизиком, учившем автора через помехи экзистанса слушать Вечность.
Темпоральные открытия этой прозы объясняют, почему Добродеева — нечастый случай — хочется перечитывать. Он, так сказать, не теряет актуальности. Экзистенциальные 70-е, когда юный полиглот и ранний эзотерик формулировал свой идеал, сменяются фрагментарно-клиповыми 80-ми, преступно-активная декада съезжает в новую стагнацию, но проза Добродеева ничуть не размагничивает своей «интересности». Это ведь особенность категориальная, а в случае выходящих в метрополии книг зарубежного русского писателя сквозь зубы цедят: «Занятно…» даже критики, далекие от доброжелательства по причинам внелитературным.
Издавая его прозу в Америке малыми, но всецело независимыми силами, в свое время я как штатный культуртрегер предавал ее огласке всеми доступными мощностями антенн, «направленных на Восток», поскольку открыл его литературу не где-нибудь, а в мюнхенском «осином гнезде», которое пополнил ее создатель, отрешенно-дистанционный с виду. Владимир Матусевич сказал мне: «Арабист!» Интеллектуал в директорах и сам скандинавовед, он знал не по Бахтину, что самое интересное возникает на стыке рубежей. Я был не настолько «в теме», чтобы почувствовать уроки суфиев, но западные источники, разумеется, ощутил, ибо арабист оказался носителем еще и франкофонной культуры (см. «Добродеев о себе» в конце этой книги). Столь же внятен ему и сумрачный германский гений (столь почитаемый арабским миром в его милитарном воплощении и деяниях Afrika-Korps). Но раньше, и прежде даже французов, — гений американский, конституционно-образующий, в три слова сколотивший все, что нужно знать прозаику, претендующему на внимание современников: Show, don’t tell.