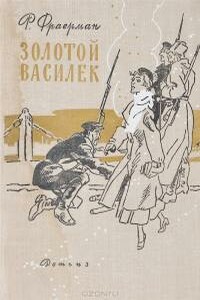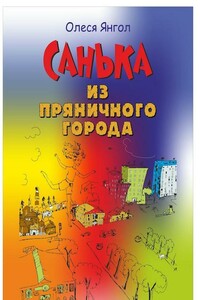Дальнее плавание | страница 90
Упоительно мгновение, когда ты сжимаешь зубы и смеешься над смертью, потому что тебе хочется совершить свой подвиг. Это действительно счастье. Но есть высшее счастье — блаженство, когда ты сам управляешь своим мужеством, когда оно поднимается по твоей воле и стоит, как скала. Этому научаются не сразу.
И командир эскадрильи, который пришел в этот полк уже давно и был уже капитаном, учил меня этому потихоньку, как учат маленького школьника началу трудной науки. И тогда именно я жалел о своем характере. Потому что наука эта трудна. Может быть, труднее всех наук. Это подвиг долга. Его показал мне однажды командир эскадрильи, который остался на свете один, потому что фашисты убили его маленького сына, и горе его было так велико, что он, никому о нем не мог рассказать.
Я только недавно, окончив срочным выпуском лётную школу, явился в свой полк. И однажды разведка донесла, что в районе одной безыменной речушки обнаружено большое скопление вражеских танков.
И случилось так, что только моя машина была в это время на аэродроме, остальные же выполняли другие боевые задания.
Я вызвался лететь на штурмовку один.
Когда кончится война, мы, наверное, скоро забудем, как называли враги наши грозные машины. Мы многое забудем, что было на войне. Они называли их «черная смерть». Но те из них, кто останется жив, наверное не забудут этого названия.
Когда я сажусь в свою машину перед боевым вылетом и пробую лишь, исправно ли действуют мои пушки и пулеметы, и посылаю несколько снарядов без цели вдаль, по макушкам зеленого леса, я вижу, как дрожит от страха и склоняется вершина ближней сосны и соседние листья шелестят от ужаса. А в моем сердце — восторг.
У нас хорошо бывает на маленьких полевых аэродромах. Чтобы враг не заметил их сверху, машины ставят обычно на опушке леса, и они стоят наполовину скрытые, под навесом молодых берез, или дикой черемухи, или осины. Иногда их дрожащий лист упадет на мое стальное сиденье. Иногда лесные бабочки садятся на мою броню, лапками и усиками как будто пробуя ее крепость, и потом замирают на ней. Иногда майский жук ударится об нее и упадет в траву на землю, иногда прилетают осы, привлеченные неизвестно чем, какой сладостью — может быть, шоколадом, что мы храним в неприкосновенном запасе, — и ползают по небьющемуся стеклу фонаря. Много крылатых созданий в летние дни забирается ко мне в кабину. И я всех их беру с собою в бой. Они хорошо переносят и высоту, и огонь зениток, и маневренность, и быстроту моего полета, может быть, потому, что у них нет воображения. Я даже часто думал о том, что если бы фашисты имели воображение, они, может быть, не могли бы причинить столько зла человечеству. И прежде всего они, конечно, никогда не посмели бы напасть на нашу Родину, так как могли бы и в состоянии были бы себе представить, что ожидает их за это. Я не о вас говорю, мотыльки, осы, майские жуки и вся моя лесная крылатая братия! Я говорю о фашисте, о человеке, который, не имея воображения, из-за облаков, с высоты трех тысяч метров, в тот поздний час, когда дети уже спят в кроватях и видят сладкие сны, одним движением рычага сбрасывает на их головы бомбы и ничего не может себе представить при этом.