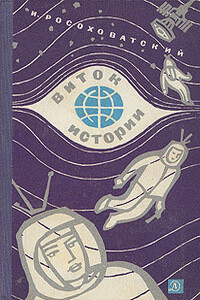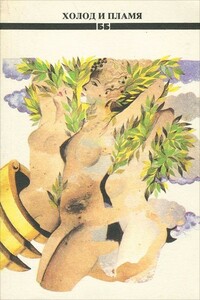Вариант «Ангола» | страница 62
Он вышел.
Мы с Вейхштейном остались в отсеке вдвоем.
— Политрук прав — до сердца проняло, — сказал я.
— Да ладно, — Вейхштейн почему-то был насупленным. — И что толку?
— То есть?
— То есть надолго ли хватит этого запала? Или он пропадет сразу, как только мы во вражеские воды войдем, когда будем от каждого самолета и эсминца шарахаться? Да и в Анголе нас, думаю, не пряниками встречать будут… Слова это, одни слова. Чем нам поможет, речь-то?
— Ты так говоришь, как будто сам в свои слова не веришь.
Вейхштейн странно посмотрел на меня.
— В том-то и дело, Саша, что не верю. В том-то и дело.
И вышел из отсека.
Владимир Вейхштейн,
Конец сентября — начало октября 1942 г.
Борт лодки "Л-16" — Датч-Харбор
Не могу себя назвать любителем морских путешествий. Вроде относился к воде без отвращения, любил в речке купаться, да и на Черном море нравилось — но то было совсем другое. Здесь же мрачные серые волны с белыми барашками тупо бьют в борт лодки, и нет от них спасения. Смышляков сказал мне, что лодки особенно чувствительны к качке, что на других кораблях, настоящих, а не подводных, все не так страшно. Может быть, только от этого не легче.
С другой стороны, не я ли виноват в том, что случилось? Первая наша встреча… гм, меня с Тихим океаном, прошла очень уж неправильно. Тяжело болея с похмелья, попасть "на волну" — хуже не придумаешь. Это как с женщиной: вроде она симпатична, умна, интересна, но ты при знакомстве был пьян, сказал не то, грубо облапал — и она с тобой уже не разговаривает, обходит стороной. Вот так и у нас с морем.
Переход с Камчатки до Датч-Харбора слился в один непрерывный кошмар. Я большую часть времени лежал на койке, борясь со рвотными позывами, почти ничего не ел и не пил. Изредка выбирался наверх, постоять с краешку на мостике, промокнуть от постоянных брызг, так, что иногда папиросу докурить не удавалось — отмокала и тухла. Стоять повыше, со всеми — стыдно, потому как в любой момент может стошнить. Помучался, зло оглядел однообразное море с торчащими на горизонте в дымке островами — и обратно в келью, чахнуть.
Вершинин этого почти и не замечал. Пропадал в отсеках, любовался пейзажами или болтал с матросами. Однако как бы плохо мне не было, я заметил, что на лодке довольно интересные отношения. Вроде живем в социалистическом государстве, на двадцать пятом году советской власти, а тут, в узком железном мирке, у матросов и старшин свой мир, а у командиров — свой. Нет, в глаза не бросается, но на третий-четвертый день уже заметно. Вершинин вот человек без звания и формы, и то его сторонятся. Хотя тяга к общению и дружелюбие дают результаты: здоровяк по фамилии Данилов уже чуть ли не другом ему стал. Хотя рядовой краснофлотец, даже не старшина.