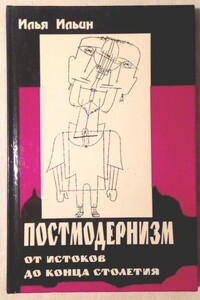Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм | страница 24
В сборнике своих интервью «Позиции» Деррида подчеркивает: «Phone на самом деле является означающей субстанцией, догорая дается сознанию как наиболее интимно связанная с представлением об обозначаемом понятии. Голос с этой точки зрения репрезентирует само сознание» (155, с. 33). Когда человек говорит, то, по мнению французского семиотика, у него создается «ложное» представление о естественной связи означающего (акустического образа слова) с означаемым (понятием о предмете или даже с самим предметом, что для Дерриды абсолютно неприемлемо): «Создается впечатление, что означающее и означаемое не только соединяются воедино, но в этой путанице кажется, что означающее самоустраняется или становится прозрачным, чтобы позволить понятию предстать в своей собственной самодостаточности, как оно есть, не обоснованное ни чем иным, кроме как своим собственным наличием» (там же).
Другая причина неприятия «звуковой речи» кроется в философской позиции французского ученого, критикующего ту концепцию самосознания человека, которая получила свое классическое выражение в знаменитом изречении Декарта: «Я мыслю, следовательно я существую» (Cogito ergo sum). «Говорящий субъект», по мнению Дерриды, во время говорения якобы предается иллюзии о независимости, автономности и суверенности своего сознания, самоценности своего «я». Именно это «сogito» (или его принцип) и расшифровывается ученым как «трансцендентальное означаемое», как тот «классический центр», который, пользуясь привилегией управления структурой или навязывания ее, например, тексту в виде его формы (сама оформленность любого текста ставится ученным под вопрос), сам в то же время остается вне постулированного им структурного поля, не подчиняясь никаким законам.
Эту концепцию «говорящего сознания», замкнутого на себе, служащего только себе и занятого исключительно логическими спекуляциями самоосмысления, Деррида называет «феноменологическим голосом» — «голосом, взятым в феноменологическом смысле, речью в ее трансцендентальной плоти, дыханием интенциональной одушевленности, трансформирующей тело слова… в духовную телесность. Феноменологический голос и будет этой духовной плотью, которая продолжает говорить и наличествовать себе самой — ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К СЕБЕ — в отсутствие мира» (158, с. 16).
В сущности, этот «феноменологический голос» представляет собой одну из сильно редуцированных ипостасей гегелевского мирового духа, в трактовке Дерриды — типичного явления западноевропейской культуры и потому логоцентрического по своему характеру, осложненного гуссерлианской интенциональностью и агрессивностью ницшеанской «воли к власти». Как отмечает Лентриккия, «феноменологический голос» выступает у Дерриды как «наиболее показательный, кульминационный пример логоцентризма, который господствовал над западной метафизикой и который утверждает, что письмо является произведением акустических образов речи, а последние, в свою очередь, пытаются воспроизвести молчаливый, неопосредованный, самому себе наличный смысл, покоящийся в сознании» (295, с. 73).