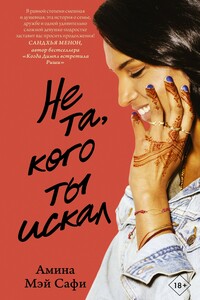Прощение | страница 5
А картинки-то были одни и те же, привычные, как штамп в паспорте, как захезанный павильончик под окном с надписью “Пиво-Воды”: муж, “патриотично” пропивающий зарплату с алкашами с родного завода; болезни, Светкины и ее, загаженные лазареты с притаившимся наподобие лох-несского монстра неуловимым внутрибольничным стафилококком, произвол люмпенов от медицины с их животным чутьем на чужую беззащитность: неопохмеленные санитарки с одинаковыми “фонарями” на синюшных физиономиях распахивают настежь дверь единственного на весь этаж сортира со сломанной защелкой, не обращая внимания на то, есть ли кто внутри. Смерть матери от инсульта, перед этим — ее гниение заживо в переполненном коридоре, где интимность попрана, нет уже ни мужчин, ни женщин, лишь бесполые существа, как перед печью крематория. Муж между тем допился уже до того, что проигрался блатным (тогда, в середине девяностых, уголовники чувствовали себя вольно), и мрачного вида бугаи в наколках молча вынесли из квартиры телевизор, мебель, ее и Светкины вещи. И, наконец, финал — муж, повесившийся посредством брючного ремня на трубе батареи отопления в их пустой, хоть в футбол играй, однокомнатной квартире.
Вот тогда, после вторых за год похорон, лежа ночами без сна, Лариса и поняла, что потеря зрения спасала ее от потери рассудка: ее “я” инстинктивно пряталось в кокон слепоты, чтобы не видеть, а жизнь насильно разверзала ей вежды, — нет, отрезала веки! — и вот она теперь воспринимает мир оголенной сетчаткой, как, наверное, воспринимали Солнце буддийские мистики, которые сами проделывали над собой эту изуверскую операцию, чтобы сон не отвлекал их от поисков Абсолюта. Но мистики, надо отдать им должное, делали это как раз для того, чтобы прозреть; она же, выходит, стала слепой по собственному желанию — ну и открытие! — и даже долго, очень долго прикрывала глаза руками, чтобы сохранить свои иллюзии. Но жизнь, как палач, заставляющий глядеть на пытки близкого существа, отдирала ее руки от ее же органов зрения, — вовсе не из вредности, не из скрупулезного садизма, не из желания запереть ее в психбольницу с диагнозом “эндогенная депрессия”, а чтобы, наоборот, спасти. А может, даже вовсе не ради нее, тридцатитрехлетней наивной дурищи с типичным национальным комплексом многотерпеливицы, она, жизнь, выкладывалась (кому мы, отработанный биоматериал, интересны-то?), а, как водится у природы, о “подрастающем поколении” заботилась. И, через несколько лет обнаружив у дочери наследственную миопию, она не стала ждать худшего и по совету ушлой подруги, ни на что особо не надеясь, отправила свою анкету в брачное агентство. “Мы подберем вам состоятельного иностранного супруга” — вот и подобрали, и на что ей, собственно говоря, жаловаться? А когда она узнала, что Ральф, заботясь о здоровье, совершает утренние пробежки и вообще не употребляет алкоголь, этот единственный аргумент поставил точку на всех ее сомнениях.