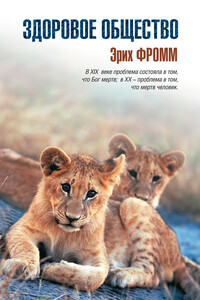Дзен-буддизм и психоанализ | страница 37
Шестой патриарх, Йено, потребовал от вопрошавшего: «Покажи мне твое изначальное лицо до твоего рождения».
Один из его учеников, Напчаку Йеджо, спрашивал у кого-то из чаявших просветления: «Кто так ко мне приходит?»
Хакуин, великий наставник Японии, учивший в наши дни, обычно поднимал одну руку перед своими слушателями и требовал: «Дайте мне услышать хлопок одной ладони!»
В дзен имеется множество таких невыполнимых требований: «Копай заступом пустых рук!», «Ходи, пока едешь на осле!», «Говори без языка!», «Играй на лютне без струн!», «Останови этот ливень!». Такие парадоксальные высказывания, несомненно, доводят интеллект до наивысшего напряжения, заставляя его в конце концов признать их совершенно бессмысленными и не стоящими того, чтобы тратить на них умственную энергию. Но никто не станет отрицать рациональности следующего вопроса, занимавшего философов, поэтов и мыслителей любого толка с тех пор, как пробудилось человеческое сознание: «Откуда мы пришли и куда идем?» Все эти «невозможные» вопросы или утверждения наставников дзен представляют собой лишь «алогичные» варианты этого «рационального» вопроса.
Действительно, наставник наверняка отвергнет ваше логическое видение коана, сделает это категорически или даже саркастически, не приводя никаких оснований своего решения. После нескольких бесед с ним вам станет непонятно, что вообще делать — разве что покинуть «старого невежественного фанатика», ничего не понимающего в «современном рационалистическом способе мышления». Истина же в том, что наставник дзен знает свое дело куда лучше, чем вам кажется. Ибо дзен — не какая-то интеллектуальная или диалектическая игра. Он имеет дело с чем-то выходящим за пределы логики вещей, ему известна «истина, которая делает свободным».
Всякое суждение о любом предмете, пока оно поддается логической трактовке, неизбежно находится на поверхности сознания. Интеллект служит различным целям нашей повседневной жизни — даже целям уничтожения индивида или всего человечества. Интеллект полезен, но он не решает последней проблемы каждого из нас, а мы раньше или позже встречаемся с нею в нашей жизни. Это проблема жизни и смерти, проблема смысла жизни. Столкнувшись с нею, интеллект вынужден признать свою неспособность с нею совладать. Он заходит в тупик, впадает в неизбежную апорию. Мы оказываемся в интеллектуальном тупике, когда перед нами словно возникает «серебряная гора» или «железная стена». Интеллектуальные маневры и трюки тут не помогут: чтобы пройти вперед, нам требуется все наше существо. Наставник дзен сказал бы по этому поводу, что вы вскарабкались по шесту до его верхушки в сотню футов высотой, но принуждены взбираться еще выше — пока не совершите отчаянного скачка, забыв об экзистенциальной безопасности. И в тот же миг вы обнаруживаете себя в полнейшей безопасности «на пьедестале расцветшего лотоса». Такой скачок никогда не совершить с помощью интеллекта или логики вещей. Последняя целиком находится во власти непрерывности, а не скачков через пропасть. А именно этого ожидает дзен от каждого, вопреки кажущейся логической невозможности. Поэтому дзен всегда подталкивает нас к тому, чтобы мы шли все дальше в привычном нам направлении рационализации и тем самым могли убедиться, сколь недалеко можно продвинуться по этому бесплодному пути. Дзен превосходно знает, где этот предел. Но мы обычно не осознаем этого факта, пока сами не оказываемся в тупике. Этот личный опыт необходим для пробуждения целостности нашего бытия, поскольку обычно мы слишком легко удовлетворяемся интеллектуальными достижениями, несмотря на то что они принадлежат лишь периферии жизни.