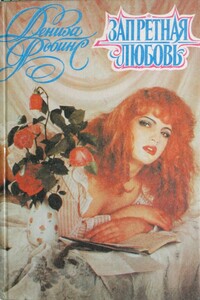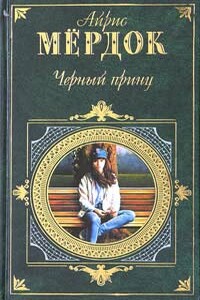Монахини и солдаты | страница 11
Обычная вещь, и, стараясь не думать об этом, Граф спросил:
— Ты в состоянии читать книги? Может, принести чего-нибудь?
— Нет, «Одиссея» будет мне провожатым. Я всегда думал о себе как об Одиссее. Только теперь… я не вернусь… надеюсь, что успею дочитать. Хотя в конце она так жестока…. Они сегодня собираются прийти?
— Ты говоришь о?..
— Les cousins et les tantes.[12]
— Да, предполагаю, что придут.
— Они сторонятся меня с тех самых пор, как я заболел.
— Напротив, — сказал Граф, — если есть кто-нибудь, кого тебе хотелось бы увидеть, ручаюсь, что ему захотелось бы увидеться с тобой.
Он научился у Гая определенной, почти неприятной точности речи.
— Никто не понимает Пиндара.[13] Никто не знает, где похоронен Моцарт. Где доказательство, что Витгенштейн никогда не думал, что мы достигнем Луны? Если бы Ганнибал после битвы при Каннах[14] пошел на Рим, он бы взял его. А, да ладно. Poscimur.[15] Кажется, нынче вечером он не такой.
— О чем ты?
— О мире.
— Снег пошел.
— Хотел бы я увидеть…
— Снег?
— Нет.
— Скоро придет сиделка.
— Я наскучил тебе, Питер.
За сегодняшний вечер это были единственные конкретные слова, обращенные к нему, один из последних несомненных признаков посреди ужасающе отрешенного монолога, что связь между ними еще существует. Это было почти невыносимо, и Граф, охваченный жалостью и отчаянием, едва не бросился опровергать Гая. Но вместо этого ответил, как Гай требовал от него, как учил его:
— Нет. Это не скука. Просто я не могу разделить твоих мыслей, а может, и не хочу. А не позволить тебе продолжать разговор в таком духе — это было бы крайне невежливо.
Гай на это сморщился в гримасе, в которую теперь превратилась его улыбка. Он наконец лежал спокойно на высоких подушках. Их взгляды встретились и разошлись, заметив в глазах друг друга искру боли.
— Да… да… не надо было ей продавать кольцо…[16]
— Ей?..
— En fin de compte — ça revient au même…
— De s’enivrer solitairement ou de conduire les peoples,[17] — закончил Граф одну из любимых цитат Гая.
— После Аристотеля все разладилось, и теперь мы понимаем почему. Свобода умерла вместе с Цицероном. Где Джеральд?
— В Австралии, со своим большим телескопом. Ты хотел бы?..
— Я всегда верил, что мои мысли блуждают в бесконечном пространстве, но это было заблуждение. Джеральд рассуждает о космосе, но это невозможно, человек не может рассуждать обо всем на свете. То, что человек не знает вообще ничего… не гарантировано… игрой…
— Какой?..
— Смысл наших слов различен. Мы разного племени.