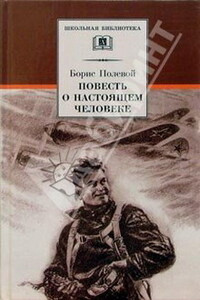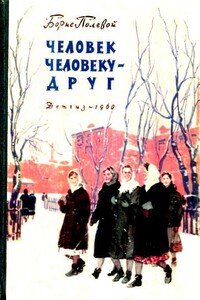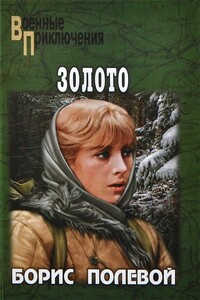Силуэты | страница 13
Мы были бы рады видеть Вас в Твери. Здесь мы можем показать Вам фабрики, принадлежащие уже не богачам Морозовым (одного из которых вы описали), а всем трудящимся.
Мы можем показать Вам просторные, светлые клубы, школы и рабфаки, детские сады и ясли, показать новые отношения между людьми, показать все, чего никогда не было, да и не могло быть при Морозове.
Ваш приезд явился бы большим праздником для нашего города, для нашей губернии.
Выражая эту просьбу рабочей и учащейся молодежи Твери, расширенная редакция „Смены“ еще раз передает ее горячий привет и пожелания творческой работы своему любимому писателю».
Потом состоялась церемония подписания этого послания. Именно церемония. Кроме сотрудников редакции под ним поставили свои подписи десятки юнкоров с фабрик, заводов, из деревень, для чего иным приходилось отшагать немало верст по очень негладким проселочным дорогам того времени.
Так и возникли добрые отношения между Горьким и тверскими комсомольцами, которые наш знаменитый корреспондент назвал потом дружбой.
Тут перо мое начинает дрожать, ибо я приступаю к описанию одной лихой газетной затеи, которую до сих пор не могу вспоминать без содрогания. Газету «Тверская правда» вел в те дни Алексей Иванович Капустин — самый инициативный редактор из всех, какие только потом попадались мне на моем уже длинном газетном пути. Блестящий выдумщик, держащий руку на пульсе жизни, он всегда был озабочен, чтобы газета, под которой стояла его редакторская подпись, была не только боевой, не только умной, но и обязательно интересной.
— Нет на свете ничего скучнее скучной газеты, — поучал он молодых журналистов.
Дни студенческих каникул я целиком отдавал газете, и Капустин избрал меня одним из исполнителей этих своих затей. Так, одно лето, чтобы потом дать несколько очерков о тверской деревне, где в те дни еще только пробивались первые ростки коллективного землепользования, я проработал избачом в селе Микшино — центре тверской Карелии. На другое лето, когда потребовались очерки о лесозаготовках и лесосплаве в волжских верховьях, он командировал меня к истокам Волги в село Селижарово. Там я определился рабочим в сплавную контору, участвовал в сплачивании плотов, а потом на гонках в качестве «заднего кормового» прошел путь от волжских верховьев до города Рыбинска, изрядно при этом заработав, ибо гонщикам, как в наших краях звали плотовщиков, в те дни платили куда больше, чем газетным репортерам. Ну, а пока течение неторопливо несло гонки вниз по реке, писал по ночам у костра очерки «На плотах».