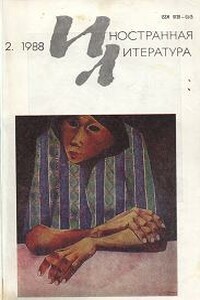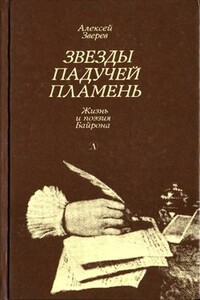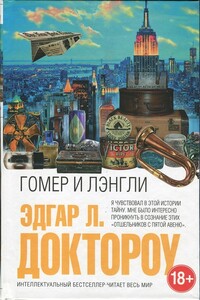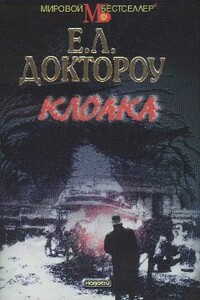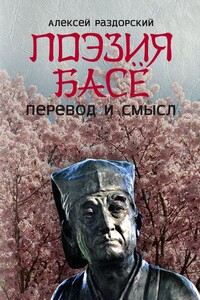Американский роман середины 80-х: «пассивные пророчества»? | страница 22
Для него суть дела заключается в кризисе христианского мировоззрения, подточенного многими недугами и больше не являющегося основой «общественного согласия», во все времена являвшегося гарантом полноценной культуры. Недуги Перси указывает без труда, поскольку они очевидны. Тут и непомерно разросшаяся рациональность, и стойкие иллюзии насчет всемогущества науки, будто бы создающей одни лишь безусловные ценности, и притягательные фетиши преуспеяния, под конец увенчиваемого чувством решительной пустоты, выморочности всей этой изобильной и ничтожной жизни.
Вот откуда, по мнению Перси, ставшее теперь до банальности заурядным ощущение бесцельной суеты бытия, потеря его смысла, разрыв связей между людьми, утратившими собственную индивидуальность. И все это отозвалось в романе явлениями столь же кризисными, как сама действительность, им запечатленная, а точнее — «документированная». Ибо роман и стал всего-навсего «документацией» распада, непритязательным «свидетельством оскудения», повсюду наблюдаемого в американском обществе. Проникнуть в логику и механизм этого оскудения романисты уже и не пытаются. Уродства действительности ими как бы молчаливо признаны естественным положением вещей.
Пристрастный суд? Да нет, он основывается на многих фактах. Однако необходимо установление причин, тогда как Перси все же говорит скорее о симптомах. Сегодня было бы только справедливо и шире, и объективнее посмотреть на сложившуюся тревожную ситуацию. Кризис христианства, какое бы значение ни придавать этому феномену (кстати, отнюдь не бесспорному), навряд ли ее объяснит. Причины глубже, и новый порог сознания, о котором говорил Айтматов, вероятно, самая главная.
Доктороу, думается, куда ближе к истине, когда тот же процесс оскудения ставит в прямую связь с равнодушием к политике, отличающем многих американцев, включая и писателей, и с несостоятельностью национального идеала, основывающегося на индивидуализме. Та «неприязнь к интеллекту», о которой он настойчиво говорит как о характерном свойстве американцев, разумеется, не им первым подмечена, она поражала едва ли не всех вдумчивых наблюдателей американской жизни. Когда Доктороу подкрепляет свой основной тезис конкретными примерами, с ним приходится спорить. Он часто несправедлив — к Мелвиллу, к Хемингуэю, к романистам, передавшим опыт поколения, воевавшего во Вьетнаме.
Не говорим уже о том, что нельзя без очень строгой проверки принимать расхожие утверждения в том духе, что американский пролетариат якобы вообще лишен классового самосознания. Или так безоговорочно соглашаться с критиком А. Кейзином, излагающим весьма сбивчивую, консервативно окрашенную концепцию, которая куда больше затемняет, чем проясняет суть трагических явлений 30-х годов.