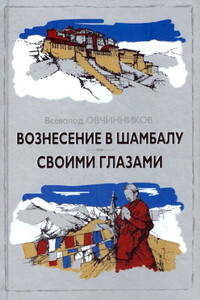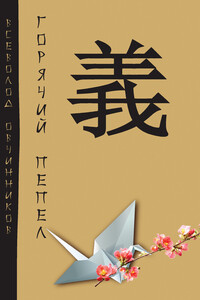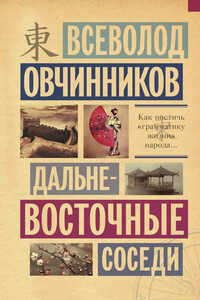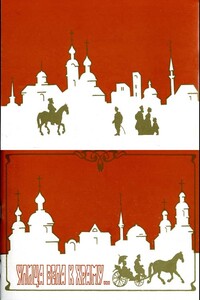Своими глазами | страница 78
Я попал на остров в феврале. А на Сигирию начал взбираться в пятом часу вечера. И хотя это была отнюдь не самая знойная пора года и отнюдь не самое знойное время дня, я все равно буквально с первых шагов обливался семью потами. Но если так утомительно карабкаться по этим кручам даже зимним вечером и к тому же без всякой ноши, каких же трудов стоило воздвигнуть этот стольный град на вершине утеса! Какой же труд надо было затратить, чтобы обеспечить эту крепость всем необходимым на случай осады!
Одуряюще пахнет жасмин. Пронзительно перекликаются тропические птицы, на заросших ряской и лотосом прудах и в дворцовом рву надрываются лягушки. Остановившись перевести дух, оглядываюсь на подножие скалы. На заросшей травой пустоши, где пасутся буйволы и горбатые бычки, четко просматриваются контуры идеально спланированного архитектурного ансамбля, созданного пятнадцать веков назад. Так называемый Нижний город, примыкавший к скале, был обнесен рвом и стеной. Кирпичная кладка фундаментов позволяет судить о размещении дворцовых построек. Дворец царицы был опоясан еще одним круглым рвом. Вдоль прямой линии, служившей осью планировки ансамбля, сохранились трубы, из которых били струи воды. Да, это можно назвать цейлонским Петергофом V века. Среди дворцов были разбиты квадратные пруды-купальни: направо — для царицы, налево — для царя. Сад царицы был расположен так, что после полудня его защищала от солнца тень от скалы. Он так и назывался «Дворец прохлады», где журчали струи водопадов и широкие кроны деревьев смягчали зной. Там, наверное, как и сейчас, цвели лотосы и вели свои хоровые песни лягушки. И видимо, так же, как и сейчас, пахло жасмином.
Карабкаюсь по крутым ступеням, которые протерты в теле скалы тысячами паломников. И не устаю поражаться титаническому труду тех, кто создал эту наскальную крепость. Вот огромный камень, именуемый Качающейся скалой. Это многотонный монолит, подготовленный к сбрасыванию на головы врагов, осаждающих крепость. Он еле держится, специально закрепленный на особых катках. Несколько крутых ступеней — и вдруг неожиданно близко, на расстоянии вытянутой руки, открываются взору знаменитые фрески Сигирии — торжество древних золотисто-оранжевых красок.
Когда-то на отвесе скалы Сигирия было изображено пятьсот женских фигур. До наших дней уцелела двадцать одна из них — лишь те, что были защищены впадиной скалы от дождя и солнца. Шестьсот восемьдесят пять стихотворений, высеченных на камне, воспевают красоту пятисот изображенных здесь дев. Об этих фресках существует целая литература. Тонкие талии, изысканные изгибы рук. Фантастическая выразительность и сила линий. Трудно поверить, что эти изображения созданы полтора тысячелетия назад, столько в них утонченного вкуса и смелости художественного обобщения. Их неподдельная архаичность в чем-то смыкается с современностью. Женщины на фресках Сигирии как бы парят над облаками. До сих пор идет спор о том, кого они изображают. Одни утверждают, что это небесные танцовщицы, другие — что это феи воды. Скала находится в засушливой зоне. И женские фигуры на фресках могут олицетворять дождевые облака или влагу вообще. Они как бы плывут на волнах. Возле их бедер пенится вода. Лотос в женских руках тоже, возможно, символизирует влагу, ибо это водяное растение. Может быть, красавицы на фресках Сигирии должны были напоминать древним цейлонцам, что орошение — это основа жизни.