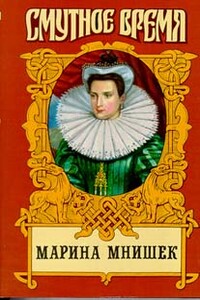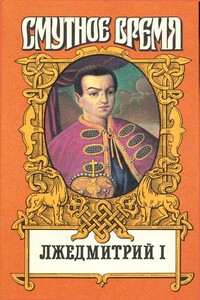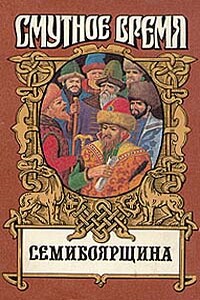Семибоярщина | страница 46
— Эй, что там? — пытаясь придать внушительность своему неприятно-пронзительному голосу, визгливо и беспокойно крикнул боярин.
Один из близстоявших детей боярских, малый саженного роста, приподнялся на стременах.
— Похороны, боярин, — сказал он, разглядев, из-за чего произошла остановка. — Похороны улицу пересекли. Передние стрельцы осадили.
— Экие блажные! — заволновался Цыплятев. — Неужели порядок похорон нам ждать! Эй, паны-гусары, вперед!
— Грех, боярин, — смущенно заметил было боярский сын, крестясь при виде похорон и снимая колпак[8] с меховым ожерельем и серебряной запоной впереди.
— Я те покажу — грех! — рассердился боярин. — Эка что выдумал: нашему да делу похорон ждать!
— Сами, кровопивцы, похороны справляете, — раздалось рядом в толпе замечание.
— Без попа — попа на смерть ведете, — подхватил другой насмешливый голос.
— Панские угодники, диаволы-изменники!..
— Молчать! — визгливо зыкнул боярин. — Кто смел? Всех на плаху к заплечным мастерам сгоню. Ну-ка, сунься, — кто сказал?
Цыплятев свирепо окинул толпу. Но народ, потупив злобные взгляды, угрюмо молчал. Боярин приподнялся в санях.
— Эй, пан, — махнул он рукой в меховой рукавице обернувшемуся в его сторону польскому ротмистру. — Вперед, пан! Дорогу!
Ротмистр охотно поспешил исполнить приказ. Врезавшись в толпу, давя и калеча лошадьми шарахнувшихся в сторону уличных зевак, взвод польских гусар выехал вперед и врезался в многолюдную похоронную процессию, пересекавшую улицу Испуганные монахини, несшие гроб, родственники покойника и плакальщицы, оборвав свои вопли и причитания, испуганно остановились с одной стороны улицы, в то время как духовенство, остальные плакальщицы и домашняя челядь перешли перекресток и стали с другой стороны. Через этот промежуток двинулись вперед гусары, вслед за ними стрельцы и дровни, сидя на которых палач спокойно снял колпак и с чувством перекрестился в сторону покойника, а злосчастный Харитон в смертельном ужасе остановил на гробе свои воспаленные, безумно остекленевшие глаза и судорожно завопил, думая о собственной участи.
Проезжая мимо, Цыплятев хотел уже снять роскошную меховую шапку и перекреститься, как вдруг он заметил своего дальнего родственника и во внешних отношениях приятеля, боярина Матвея Парменовича Роща-Сабурова. И, торопливо опустив руку, взялся за воротник шубы и плотнее прикрыл им часть лица, обращенную в сторону Роща-Сабурова. «Ахти, и в самом деле — грех! — подумал Цыплятев, боясь, как бы Роща-Сабуров не разглядел его. — Эк меня, право, угораздило покойницу потревожить!» И, мысленно пожелав покоя душе «новопреставленной болярине Феодосии», он решил поторопиться с казнью, чтобы поспеть в церковь хотя бы к концу отпевания. Избегая встретиться со взглядом Роща-Сабурова, он торопливо шмыгнул глазами на другую сторону улицы и… чуть не ахнул: в толпе домашних боярина, успевших уже перейти дорогу, он заметил злобно направленный на него острый взгляд молодого сына боярского, часть лица которого была скрыта повязкой из-за полученной раны. «Аленин? Быть не может! — удивился Цыплятев. — У того бороды не было, а под тряпицей лица не разглядеть. Да нет, нет — он. Глаза его. Неужели хватило смелости на Москву сунуться? Ну, ну, коли так, постой же, Матвей Парменыч! Не было против тебя закорючки, ан вон и целый знатный крюк. Стало быть, теперь поговорим иначе…»