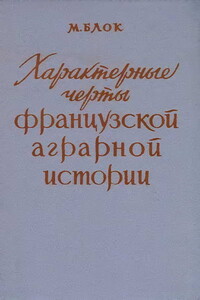Апология истории, или Ремесло историка | страница 21
7. Понять прошлое с помощью настоящего
Общность эпох настолько существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего. Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна>19. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши. Начнем с него». Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю жизнь». Способность к восприятию живого — поистине главное качество историка. Пусть не вводит нас в заблуждение некая сухость стиля — этой способностью отличались самые великие среди нас: Фюстель, Мэтланд>20, каждый на свой лад (эти были более строгими), не менее, чем Мишле. И, быть может, она-то и является тем даром фей, который невозможно приобрести, если не получил его в колыбели. Однако ее надо непрестанно упражнять и развивать. Каким образом? Пример этому дал сам Пиренн — постоянным контактом с современностью. Ибо в ней, в современности, непосредственно доступен нашим чувствам трепет человеческой жизни, для восстановления которого в старых текстах нам требуется большое усилие воображения. Я много раз читал, часто сам рассказывал истории о войне и сражениях. Знал ли я действительно — в полном смысле слова «знать», — знал ли я нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для народа — поражение?>21 Прежде чем я сам летом и осенью 1918 г. вдохнул радостный воздух победы (надеюсь, что мне придется еще раз вдохнуть его полной грудью, но, увы, запах его вряд ли будет таким же), знал ли я подлинный смысл этого прекрасного слова? По правде сказать, мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся для характеристики исчезнувших состояний души, отмерших социальных форм, — разве имели бы они для нас какой-то смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей? Это инстинктивное смешение гораздо разумней заменить сознательным и контролируемым наблюдением. Думается, что великий математик будет не менее велик, если пройдет по миру, в котором он живет, с закрытыми глазами. Но эрудит, которому неинтересно смотреть вокруг себя на людей, на вещи и события, вероятно, заслуживает, чтобы его, как сказал Пиренн, назвали антикварным орудием. Ему лучше отказаться от звания историка.