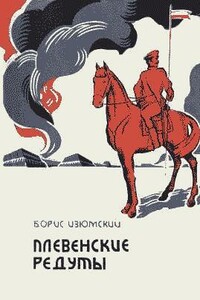Нина Грибоедова | страница 44
«Только бы не появилась за этот год у меня здесь соперница, — ревниво думает Маквала. — Хотя Тамаз вроде бы надежный джигит. Вчера, пустомеля, сказал: „Гляди не попади там в гарем“. Так и попала!»
Нет, недаром она пекла хачапури с грецкими орехами и ходила к ореховому дереву. Оно дало хорошего жениха. Маквала опасалась — не пьяница ли Тамаз: налила на ноготь большого пальца его руки вина. Капля скатилась с ногтя — значит, нет опасности.
А какой Тамаз бесстрашный! На веревке спустился к гнезду орлицы и, отбиваясь от нее кинжалом, достал птенцов.
Однажды, рискуя сорваться со скалы, добыл для нее алые цветы.
Он джигит! У него мирная работа, а настоящий джигит. И свободу любит: не захотел остаться у грубого мастера. Сказал ей: «От пинка не больно, а обидно».
Мысли Маквалы обратились к Нино: «Александр Сергеевич будет счастлив с ней… У нее добрая, отзывчивая душа… Всем поделится, ничего не пожалеет… Разве кто-нибудь знает это лучше меня? Хотя нет, Александр Сергеевич, уй, какой проницательный, он тоже это знает».
Няня Талала, ни за что не соглашавшаяся «отпустить свою арчви одну на чужбину», вместе с Маквалой сидит в повозке, груженной скарбом, озабоченно размышляет: «Девочка бесхитростная, нелегко ей будет… А жена — верная. Пастух красавицы — ее совесть…»
Талала извлекает из сумки лепешку, отломив край, собирается пожевать. Резать хлеб ножом Талала считает великим грехом. Повозку тряхнуло — видно, колесо наскочило на камень, — и кусок хлеба выпал из руки старухи. Она, покряхтывая, сползла на землю, подняла хлеб, словно извиняясь перед ним, поцеловала и снова взобралась на повозку.
Скоро пошли сторожевые башни, угнездившиеся на вершинах гор, мрачные ущелья, сакли над бездонными пропастями. При одном взгляде в их глубины кружилась голова.
Грудились скалы, облепленные темным мхом; казалось — то молнии, расщепив камень, опалили его своим слепым огнем. А из скал, словно раздвинув их, тянулись к небу сосны.
Клекотали в выси орлы. Живым горделивым изваянием замирали на крутизне олени.
Караван посланника пробирался то в тучах, то по дну душного провала. Рядом ревели потоки, ворковали ручьи, злобно роняли пену вырвавшиеся из теснин реки, спокойно голубели озера в каменных оправах, в поднебесье парили с распростертыми крыльями кобчики, будто привязанные к вершинам гор невидимыми нитями.
Один из проводников — молодой грузин Гурам, в черкеске из верблюжьей шерсти, с пистолетами за широким поясом, изукрашенным серебряными чеканными бляхами, в лихо сдвинутой набок шапке, с крыльями ноздрей так приподнятыми, что, казалось, он постоянно раздувает их, — все дивился про себя неприхотливости посольской жены. Она упросила мужа сменить экипаж на возок с сеном, покрытым ковром, пробовала — к недовольству Соломэ — вареную буйволятину, предложенную ей Гурамом, бесстрашно пыталась, как и он, жевать какие-то горьковатые листья.