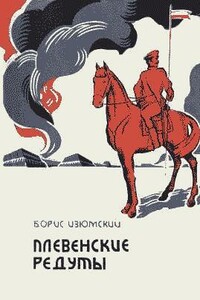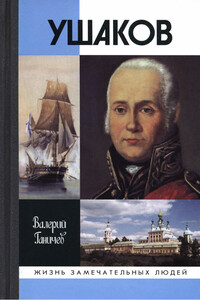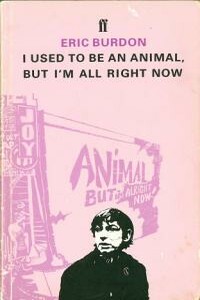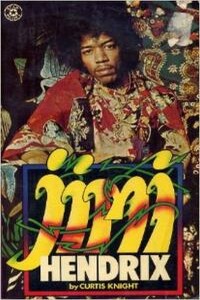Нина Грибоедова | страница 20
— Я с радостью благословляю… потому что знаю: Нине с вами будет хорошо. Но надо послать письмо Александру Гарсевановичу в Эривань.
Почти восьмидесятилетняя мать Александра Гарсевановича — Мариам, как всегда, в темном платье с вышивкой — гулиспири — на груди, в старинном тавсакрави, бархатным венчиком охватывавшем ее лоб, обняв Грибоедова и Нину, пожелала:
— Живите в дружбе, дети…
В молодости женщина редчайшей красоты, воспетая не одним поэтом, Мариам хорошо знала цену счастливого брака по любви и от души давала сейчас свое благословение.
Грибоедов почтительно припал к ее руке. Бабушка Мариам была тоже Грузией. Как проучила она генерала Ермолова! Тот не удосужился ни разу побывать в доме Чавчавадзе. И только уже отозванный с Кавказа решил нанести визит, но не был принят. Мариам приказала передать генералу:
— Раз столько времени не были у нас, зачем теперь утруждать себя?..
Сейчас Мариам, проведя легкой рукой по волосам Грибоедова, ласково сказала:
— Шени чериме[8].
Няня Талала вдруг ни к месту запричитала:
— Уймэ[9]. Да куда же такому младенцу!
Талала сама вышла замуж пятнадцати лет — у них в Кахетии восемнадцатилетних девушек считали старыми девами. Но речь ведь шла о ее маленькой Нинуце!
А потом все было, как во сне; благословение Прасковьи Николаевны, озорной голос Катеньки, которая где-то в дальней комнате, но так, чтобы ее услышали, пропела:
— Жених и невеста замесили тесто!
И строгий голос Ахвердовой:
— Эка! Постыдись!
И прибежавшая сияющая Маквала, и с какой-то невольной завистью глядевшая на Нину Надежда Афанасьевна…
У всех глаза были счастливые и почему-то немного печальные, словно прощались с Ниной, собирали ее куда-то в дальний, неведомый путь.
Александру Сергеевичу и Нине захотелось уйти от слез, поздравлений, остаться вдвоем. Они поднялись на второй этаж, в затемненную шторами, прохладную, пахнущую лавандой комнату Соломэ.
Нина прятала губы, умоляюще просила:
— Не надо… не надо…
Но он, какой-то восторженный, раскрасневшийся, совсем юный, снова и снова находил ее губы и, как маленькой, говорил, что они у нее несмышленые, глупышки, и, целовал все крепче и сильнее, так, что у Нины захватывало дух, кружилась голова, а сердце сладко овевало, как при взлете на качелях. Он же думал, что губы ее — такие кроткие, как зимний воздух в Тифлисе, как она сама.
Нине казалось невозможным перейти на «ты», называть его Сандром, и сначала она все сбивалась, пытаясь найти какую-то безликую форму обращения. А он, смеясь, настойчиво просил: