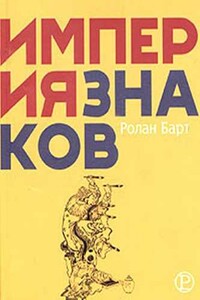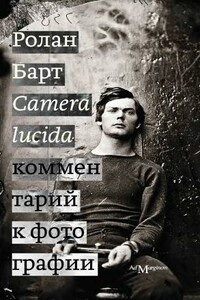Сад, Фурье, Лойола | страница 31
И как раз согласно этому негативному смыслу отталкивания — по крайней мере, в первый раз — необходимо интерпретировать игнатианское воображение. Здесь следует отличать воображаемое от воображения. Воображаемое можно понимать как совокупность внутренних представлений (в расхожем смысле), или же как поле предательства образа (какой смысл мы находим у Башляра и в тематической критике), или еще как незнание субъектом самого себя в момент, когда он берет на себя задачу говорить, заполняя свое Я (такой смысл слова «воображаемое» у Ж. Лакана). И вот оказывается, что воображаемое Игнатия весьма бедно во всех этих смыслах. Сеть образов, каковой он спонтанно распоряжался (или которую он предлагает упражняющемуся), имеет почти никакого значения, так что вся работа «Упражнений» состоит в том, чтобы снабдить образами человека, от природы ими обделенного; производимые с большим трудом, благодаря ожесточенному стремлению, эти образы остаются банальными скелетоподобными: если необходимо «вообразить» ад, это будут (воспоминания о мудрой системе образов) пожары, завывания, сера, слезы; нигде не видно тех путей преображения, тех «аллей грез», какими Башляр умел оснащать свою тематику; у Игнатия никогда не встречается ни одной из тех субстанциональных сингулярностей, тех сюрпризов со стороны материи, какие мы находим у Рейсбрука>7 или у Иоанна Креста; Игнатий весьма стремительно заменяет своим интеллектуальным шифром описание воображаемой вещи: Люцифер, конечно же, сидит за своего рода «громадной кафедрой из огня и дыма», но в остальном его вид просто «ужасен и устрашающ». Что же касается игнатианского Я, по крайней мере в «Упражнениях», то у него нет ни малейшей бытийной ценности, оно никоим образом не описывается, не предицируется, его упоминание чисто транзитивно, императивно («как только я просыпаюсь, возвратить меня в здравую память…», «задержать мои взгляды», «лишить меня всякого света» и т. д.); поистине это