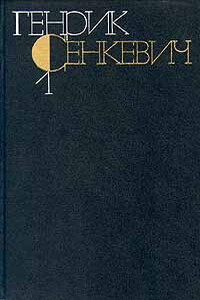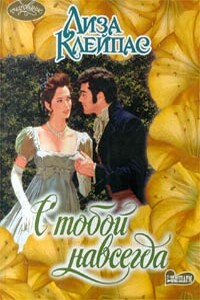Ганя | страница 13
Любовь принесла мне неизведанное доселе счастье, но также и незнакомые до сих пор страдания. Если б я мог кому-нибудь поверить свою тревогу, если бы мог поплакать на чьей-нибудь груди (а к этому у меня теперь развилась необыкновенная охота), то, несомненно, половина тяжести свалилась бы с моей груди. Правда, я мог рассказать всё Селиму, но боялся его характера. Я знал, что в первую минуту он горячо примет все мои слова к сердцу, но кто мне мог поручиться, что на другой день он не осмеёт меня со свойственным ему цинизмом и легкомысленными словами не осквернит мой идеал, к которому я и в мечтах своих относился чуть ли не с благоговейным трепетом? Мой характер, наоборот, был скрытный и, кроме того, у меня с Селимом была одна огромная разница. Разница эта заключалась вот в чём: я был всегда сентиментален, а у Селима сентиментальности не было ни на грош. Я мог любить только грустно, Селим — только весело. Любовь свою я скрывал ото всех, почти от самого себя, и, действительно, её никто не замечал. В несколько дней, никогда не видав никаких примеров, я инстинктивно выучился имитировать все проявления любви: задумчивость, румянец, которым покрывалось моё лицо, когда кто-нибудь вспоминал при мне имя Гани, — одним словом, я проявил необыкновенную ловкость, — ту ловкость, при помощи которой шестнадцатилетний мальчик иногда сумеет обмануть самого опытного человека, наблюдающего за ним. Признаваться Гане я не имел ни малейшего намерения. Я любил её, и мне этого было совершенно достаточно. Только по временам, когда мы оставались одни, меня подмывало сделать что-нибудь, например — стать перед нею на колени или поцеловать край её платья.
А Селим тем временем куролесил, смеялся, острил и был весел за нас обоих. Это он в первый раз вызвал улыбку на уста Гани, когда однажды за завтраком предложил ксёндзу Людвику перейти в магометанскую веру и жениться на madame д'Ив. Ужасно обидчивая француженка и ксёндз даже сердиться на него не могли, и как только он приласкался к ним, как только посмотрел на них своими чудными глазами, так дело всё и кончилось лёгким выговором и всеобщим смехом. В отношениях его к Гане чувствовалось неподдельное участие, но и её пересиливала врождённая весёлость Селима. С ней он был более на короткой ноге, чем я. Видно было, что и Ганя его любит, потому что как только он войдёт в комнату, так и её лицо прояснится. Надо мной, а в особенности над моею грустью он издевался постоянно, называя её искусственною важностью мальчика, которому во что бы то ни стало хочется казаться взрослым человеком.