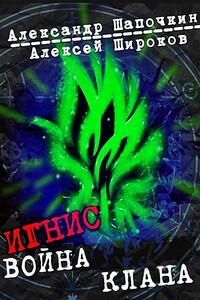Свастика над Атлантидой. Черное Солнце | страница 81
В небольшой трехкомнатной квартире Вилли чувствовался знакомый книжный аромат, словно он привез его с собой из далекого военного Берлина, из того магазинчика, где я часто делал покупки. Длинные, темного дерева, полки вдоль стен гостиной и кабинета были плотно уставлены книгами, с корешками, пестрящими названиями на разных языках. Кое-где стояли фотографии в рамках. Я взял одну из них. На черно-белом снимке два молодых человека в эсэсовской форме улыбаясь смотрели в объектив. Снимок был сделан в июне 1941 года, за несколько дней до начала войны с Советским Союзом. Не верилось, что на снимке рядом с Вилли — я. Казалось, это другой человек, абсолютно мне незнакомый. Кто знал, что события, ожидающие этого бравого офицера, изменят его настолько, что даже собственное имя станет казаться ему чужим.
Магдалена за моей спиной коснулась панели музыкального проигрывателя, и красивый голос неизвестной певицы наполнил квартиру пронзительно грустным вокалом. Мягкое сопрано печально выводило «Аве Мария». Магдалена приблизилась и положила мне руку на плечо, взглянула на фотографию:
— Странно, словно это ты и не ты одновременно.
— Ты знаешь, на фронте Вилли считался самым бесстрашным офицером. Мог запросто первым рвануть в атаку, увлекая за собой остальных. Я брал с него пример, хотя страшился каждого нового боя безмерно. Всем казалось, что, кроме презрения, он к смерти ничего не испытывает.
— Смерти боятся все, Эрик.
— Он часто повторял слова Эпикура: «Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет».
— Он просто так же, как и ты, прятал страх за бравадой.
— Может быть. Тогда. Но не теперь, — поставил я фотографию на место и наугад вытянул с полки ближайшую книгу со стершимся от времени названием. Открыв затертую обложку, провел ладонью по тисненой поверхности титульного листа. Это был сборник лирики Иоганна Гёте — старое издание с готическим шрифтом на пожелтевшей бумаге. По вложенной полоске пергамента, служащей нехитрой закладкой, я раскрыл книгу. Стихотворение называлось «Три оды к моему другу Беришу». Глаза скользнули по первым строкам:
Не читая дальше, я захлопнул том. Забытое с юности стихотворение огненными буквами всплыло в моей памяти от первой до последней строки, обретя ныне свой истинный — трагичный и возвышенный — смысл.