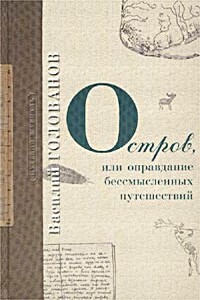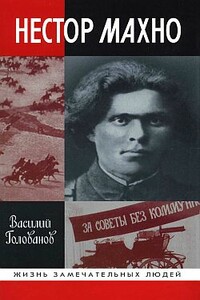Восхождение в Согратль | страница 37
Слева в ущелье промелькнул красиво прилепившийся к отвесной стене горы аул: это был Чох.
Мы давно ехали по территории Андалала. До Согратля оставалось не больше десяти километров.
Я смотрел во все глаза. За шумом мотора я едва разобрал слова Ахмеда:
— Сейчас мы возродили общество. Пока что только в Согратле.
— И мы сможем поговорить с кем-нибудь из этого общества?
— Да мы давно уже с тобой говорим, — сказал Ахмед.
— В каком смысле?
— В том смысле, что сейчас я избран руководителем общества…
VIII. Магомед Ахтуханов и Надир-шах
Машина переехала мост и по крутому серпантину взобралась сразу в центр Согратля, к площади перед мечетью. Здесь дорога закончилась. Выше в горы в этих местах путей не было. Со скамейки встал высокий, лет шестидесяти пяти человек, в своей шерстяной шапочке чем-то неуловимо похожий на протестантского пастора. Это и был поджидавший нас Магомед — бывший директор местной школы, знаток согратлинской старины и хранитель местного музея.
Пока мы поднимались, я совершенно не разглядел селение, потому что с одной стороны всегда была отвесная, будто специально сколотая стена горы, а с другой — крыши порядков, которые располагались ниже дороги. Теперь я огляделся: площадь перед мечетью. Мечеть большая, с высоким минаретом, кажется, перестроенная. От нее в четыре стороны расходились узкие, мощеные камнем улочки. Дома, в основном двухэтажные, тоже были сложены из хорошо обтесанного желтого, с черными подпалинами, камня размером в два кирпича. Больше похоже на небольшой средневековый городок, чем на селение вроде Гала. Мы поднялись по ступенькам, нырнули в какую-то арку, дальше я стал было поворачивать влево: там была узкая живописная мощеная улочка и дверь, к ручке которой был привязан черный ослик с бежевыми очками вокруг печальных глаз, но Магомед позвал меня в другую сторону — тут тоже была узкая улочка и какая-то марокканская цветовая нарезка: белые стены, синие двери, над дверями — латунные таблички с арабской вязью — перечнем колен живущего в доме рода — и опять белые стены, синие двери, синие окна. Куча хвороста, угодившая в кадр, подтверждала, что мы находимся не в марокканском фоторепортаже журнала National Geographic, а в стране, требующей много хвороста и, значит, много тепла. Внезапно под ногами блеснула золотистая солома, запахло хлевом, и по правую руку вдруг открылись — как показалось мне — древние каменные сараи с кизяком, сушившимся под крышей на затянутом сеткой втором этаже. Кизяк — это главное топливо любого степного кочевья, любого поселения в горах. По крайней мере, в старое время. Я пригляделся. Кизяк я видел разный: сушеный лепешками и предварительно порезанный квадратами. Но здесь он походил скорее на прессованный табак или на темные, бурые, сильно смешанные с соломой сырцовые кирпичи. Может быть, такое впечатление создавалось потому, что он был уложен аккуратной кладкой, издалека напоминавшей грубую шерстяную вязку. При этом брикеты были совершенно ровными, ибо, как я догадался, предварительно были раскатаны каменной «скалкой» диаметром со средней толщины бревно.